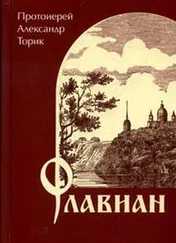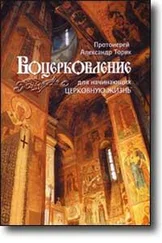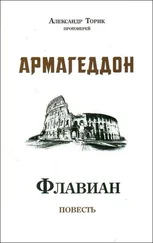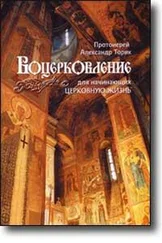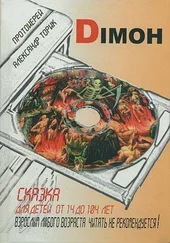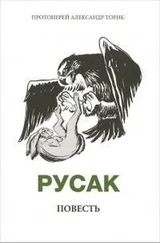Старица нежно называла свою почти пятидесятилетнюю келейницу «Машенька» или «девчушка моя», держала её при себе денно и нощно, отпуская лишь на богослужения и совместные общие трапезы, которые она, по древней монастырской традиции, воспринимала как естественное продолжение богослужений.
Саму «амму» келейница Мария кормила, если можно назвать едой то малейшее количество пищи, которое позволяла себе старица, почти как ребёнка — с ложечки, прямо в келье на одре, посадив старицу поудобнее и подложив под её, сгорбленную годами и трудами спину несколько подушек.
— Девонька моя! — обращалась к инокине Марии старица, — ты спрашивай, спрашивай меня всё, что в твою головоньку милую придёт, Я пока в разуме, всем, что помню, с тобой поделиться готова, таких как я «сундучков со старьём», поди, уже и немного осталось! А там, в старье-то этом, немало есть камушков драгоценных, которые не стареют, а «вчера и днесь, так же и во веки» нужны и ценны. Как говаривала приснопамятная моя духовная мать Мисаила, «учись у Адама, учись у Ноя, учись у Иова, учись у Давида, учись и у матери с отцом — так и вырастешь молодцом»!
А учиться у матери Афанасии было чему!
Как «всё» терпеть, как помыслы осуждения в «пожаление согрешающего» обращать, как не спать на ночной молитве, что и как есть и пить перед бдением, чтобы бесы помыслами меньше смущали, какими пальцами чётку тянуть, как стоять, чтобы меньше ноги болели, как плакать «духовно», как о Боге память держать, как сидеть, в чём ко сну отходить и ещё много-много всяких мелких и важных приёмов, обычаев и традиций, собранных в веках поколениями монашествующих и помогающих успешно проходить многотрудный подвиг иноческого жития.
Инокиня Мария жадно впитывала каждое слово, исходящее из уст старицы, все её советы, с благословения отца Иринарха, сразу же старалась воплощать в жизнь, пользуясь возможностью переспросить и поправить что-то, не удававшееся с первого разу.
Старица же, видя искреннее горячее желание своей келейницы перенять и научиться у неё всему богатству духовной жизни и монашеской культуры, которым она обладала в избытке, также не жалела времени и сил на обучение будущей преемницы по благодати старчества.
Другие сестры, если и принимали поначалу вбрасываемые в их сознание демонские помыслы ревности к «только что появившейся выскочке», то очищаемые от них исповедью и откровением помыслов у отца Иринарха, видя искреннее смирение и доброе расположение ко всем инокини Марии, укрепляемое беспощадностью к собственным немощам, безотказностью в помощи, истовостью в молитве и нелицемерным послушанием, поневоле прониклись к ней искренним уважением и любовью.
Через год, на первой седмице Великого Поста, отец Иринарх постриг инокиню Марию в мантию с именем Антония — в честь преподобного Антония Великого, пустынника Египетского.
— Тебе помочь, матушка? — раздался рядом со старицей исполненный обеспокоенности и заботы голос инока Георгия. — Ты себя хорошо чувствуешь, не утомилась на службе? Может к тебе нашего доктора — отца Дионисия позвать?
— Спаси тя Христос, внучик! — улыбнулась мать Селафиила. — Всё хорошо! Я тут просто задумалась немного, старые годы свои вспомнила, постриг свой, манатейный…
Именно этот постриг из всех трёх своих — иноческого, мантийного и великосхимнического — наиболее запомнился матери Селафииле своей особенной неповторимой атмосферой вселенскости совершающегося события — смерти земного человека и духовного рождения «земного ангела» — монаха.
Как и положено по чину «пострижения в мантию», совершался постриг во время совершения Божественной Литургии и, поскольку монашеская жизнь общины отца Иринарха протекала втайне от мира, то и сама литургия совершалась глубокой ночью.
В ту ночь впервые инокиня Мария увидела сестёр общины в своих обычно запрятанных по сундукам монашеских облачениях, специально одетых в честь торжественного события — приобщения «к святой дружине» монашествующих ещё одного «воина».
Мария смотрела и не узнавала в окруживших её строгих монахинях, в чёрных мантиях и клобуках напоминающих закованных в доспехи рыцарей, тех привычных её глазу сестёр, которых обычно она лицезрела в простых полотняных платочках, пёстреньких ситцевых платишках и поношенных бабьих «кацавейках».
Только проглядывающие из глубины сестринских глаз любовь и искреннее сердечное сопереживание не давали ей потерять ощущение внутренней близости и родства с этими «небесными человеками».
Читать дальше