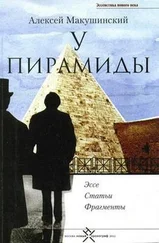В 1942 году, вместе с мужем, дочерью и мамой, она уплывает из Марселя в Америку; казалось бы, это спасение, но, как и Симоне Вейль, ей спасенья не нужно. В отличие от Симоны она в Старый Свет все же не возвращается (ни во время войны, ни, что удивительно, после, когда вернулись многие, тот же Жан Валь), поступает сперва работать во французский отдел «Голоса Америки», затем, благодаря посредничеству того же Валя, получает университетскую позицию (мучительно непостоянную, всего лишь продлеваемую из года в год) в женском колледже Mount Holyoke, в городке South Hadley, штат Массачусетс (до Бостона девяносто, до Нью-Йорка сто пятьдесят миль, рассказывает мне Google Maps; сто сорок и двести сорок, соответственно, километров; дыра, видно, та еще). В 1943-м выходит ее вторая книга (книжка, книжица); эссе об «Илиаде»; сжатое, строгое, а все же исполненное какого-то сухого лиризма, стилистически совершенное размышление о героях и образах древнейшего рассказа о войне – во время войны. Примерно в это же время и Симона Вейль пишет о гомеровском эпосе («Илиада, или Поэма силы»; сочинение, впрочем, более или менее бредовое, как все ее сочинения… бейте меня, режьте меня); и Ганна Арендт, с которой Беспалова встречалась и в Нью-Йорке, и в South Hadley, штат Массачусетс, читает оба текста – и тоже пишет, разумеется, о войне, о власти и о насилии. Не в таком уж страшном одиночестве проходит ее (Беспаловой) жизнь. В Нью-Йорке вновь встречается она с Маритенами (с которыми и в Париже водила знакомство; «как философ мне Маритен не дает ничего», писала она Жану Валю, но как человек он ей, видимо, был симпатичен; мы, в сущности, так к нему теперь и относимся). В колледже, где она преподает, в 42, 43, 44 году, делается попытка возобновить, в эмиграции, знаменитые декады в Понтиньи, проходившие в двадцатые и тридцатые годы в Бургундии, десятидневные конференции в бывшем аббатстве, принадлежавшем в ту пору философу Полю Дежардену. Те, французские, декады были, если угодно, смотром интеллектуальных сил межвоенной Европы; кто только ни бывал на них, от Томаса Манна до Томаса Стернса Элиота, и от Андре Жида до Бердяева, подробно описавшего их в «Самопознании». В Америке эту традицию, вместе с одним из своих коллег и с помощью вездесущего Маритена, попытался восстановить как раз Жан Валь, давний друг и Беспаловой, и Симоны Вейль; здесь участниками тоже были не последние люди: Ганна, еще раз, Аренд (читавшая там доклад о Кафке как политическом мыслителе), Клод Леви-Стросс, Марк Шагал, Роман Якобсон, Марианне Мур, Уоллес Стивенс. Казалось бы, это не соприкасающиеся миры – Уоллес Стивенс, величайший (как многие считают, я не уверен) американский поэт XX века, а с другой стороны, Ганна Аренд, Рахиль Беспалова, – а вот, оказывается, они выступали вместе, сидели на садовых стульях на одной лужайке перед псевдоготическим зданием колледжа (как это в Америке принято). Рахиль Беспалова принимала во всем этом участие, вполне деятельное; есть воспоминания ее бывших студенток, отзывавшихся о ней как о строгой, требовательной преподавательнице, всегда очень собранной, учившей их мыслить самостоятельно, «на свой салтык» (по любимому выражению Константина Леонтьева), и конечно, очень много им давшей, открывшей им Корнеля, Расина.
Все же, по многим свидетельствам, она оставалась человеком глубоко несчастным. Помимо личного несчастья, это время несчастья всеобщего, трагедии мировой и еврейской. По-видимому, она испытывала, как многие, кто избежал Голокауста (только не Симона Вейль с ее еврейским антисемитизмом; впрочем, антисемитизм и святость часто, и очень хорошо, уживаются друг с другом), чувство вины перед теми, кто его не избежал; перед тем же Фонданом. Вина выживших перед погибшими безмерна и неизбывна; мы все ее чувствуем, если в нас есть остатки совести. В замечательной, блестяще написанной статье о Камю 1949 года (одной из лучших статей о Камю, какие существуют в природе, по моему скромному мнению) – статье, получившей восторженный отзыв самого объекта исследования (она называется «Мир приговоренного к смерти» – страшноватенькое заглавие, если подумать, что в момент написания она, возможно, уже приговорила к смерти себя саму; Эммануэль Мунье, лидер французского персонализма, ученик Маритена, опубликовал ее в 1950-м, уже посмертно, в своем журнале É sprit; вслед за ней идет большой текст о Камю самого Мунье, не вызвавший у объекта исследования таких же восторгов, не вызвавший вообще никаких); – в этой статье читаем: «Камю, как Мальро, как Сартр, принадлежит к поколению, которое история обрекла на жизнь в атмосфере насильственной смерти. Ни в какую другую эпоху, быть может, мысль о смерти не была таким исключительным образом связана с мыслью о пароксизме произвольной жестокости… Дым крематориев заставил замолчать волшебную песнь, которая, от Шатобриана до Барреса, от Вагнера до Томаса Манна, не могла исчерпать свои модуляции. Отныне, в соседстве смерти, пытки заменяют экстаз, а садизм – сладострастие. С другой стороны, понемногу истощается безмерная уверенность в выздоровлении, которую христиане ассоциировали со смертью, бесконечная надежда на обретение родины, перед которой смерть стояла как „крылатый часовой ” . Нам остается только голая смерть, в буре холодного насилия… Ни культ мертвых, ни религия славы, ни вера в жизнь вечную не идут за ней в этот ад. Таков образ смерти, запечатлевшийся, как водяной знак, на каждой странице Камю».
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)