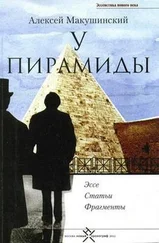Дом самого Фондана, № 6 (не знаю, кстати, в каком этаже была их с женой и сестрою квартира), поражает какой-то невеселой непрезентабельностью – окна в решетках, и стены в подтеках, и таинственные трубы (водопровод? канализация?), идущие по внешней стене, на радость прохожим (не помню даже, видел ли я еще где-нибудь такие внешние трубы). Что-то есть трагическое в этом доме, этих трубах, этой стене. Интересно, почувствовали ли это Раиса и Жак Маритены, впервые здесь оказавшись? А они приходили сюда; в одном из первых писем (переписка опубликована) Фондан выясняет, что они едят, не вегетарианцы ли они; начинавшееся после океанских бесед сближение удивляло, кажется, их самих. Эмиль Чоран в своем восхищенном, втайне покаянном очерке (вечная вина выжившего перед погибшими…) пишет, что, обычно снисходительный, его друг терял терпение только с теми, кто думал, что нашел, кто обратился в ту или иную веру (прямо, добавим от себя, по-паскалевски: оправдываю только тех, кто ищет, стеная; je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant). Он был очень разочарован, пишет дальше Чоран, узнав, что Борис де Шлецер (известный тогда писатель и переводчик с русского; в частности, переводчик Шестова) перешел в католичество. Он этого не принимал, а случившееся расценивал как измену (знал бы, что случится с его собственной вдовой; об этом чуть позже). «Поиск был для Фондана не просто потребностью или страстью – беспрестанный поиск был для него судьбой, его судьбой, которая сказывалась во всем вплоть до манеры говорить, особенно когда он горячился или разрывался между иронией и удушьем. Сколько раз я потом упрекал себя за то, что не записывал его монологов, находок, бросков его мысли, немедленно обраставшей всевозможными ответвлениями и на каждом шагу сражавшейся с тиранией и ничтожеством очевидностей, ненасытной в погоне за противоречиями и опасающейся любых итогов».
Но Маритены, и Раиса, и Жак, и Вера, как раз и были, еще раз, такими нашедшими людьми, подключившимися к уже якобы данной, открытой (богооткровенной) истине, к уже готовой системе воззрений и ценностей. А вот, значит, диалог с Маритенами все-таки оказывался для Фондана возможен, как был он возможен и для Бердяева, тоже, хотя и по-другому, бесконечно далекого от всех готовых систем и заранее данных истин. Не потому ли он был возможен, теперь я думаю, что мы разговариваем в первую очередь с человеком и лишь во вторую, в третью, в десятую – с его мненьями, взглядами? «Чем больше я Вас читаю, – пишет Фондан Маритену 27 декабря 1937 года, – тем сильнее трогают меня дружба и симпатия, которыми Вы меня удостаиваете, – и тем более изумляют меня мои собственные чувства к Вам, – так, на первый взгляд, безмерна дистанция, нас разделяющая. И тем не менее, хотя Ваша мысль меня раздражает (а моя вызывает у Вас ярость), я Вас читаю страстно, с желанием быть убежденным Вами, до такой степени Ваша вера, мощь и честность Вашей мысли глубоки, чисты и несомненны. Если я не могу следовать за Вами и вынужден считать Вас своим противником, то это происходит словно вопреки мне самому…»

Трагизма этой стены, этих труб не могла не почувствовать другая посетительница Фондана – Рахиль Беспалова (Rachel Bespaloff, во французской транскрипции; пришло, наконец, время сказать о ней сколько-то слов, написать хоть пару страниц); персонаж, на свой лад, не менее трагический, чем сам Фондан – Фондан, с которым (признавалась она после его, незадолго до своей собственной гибели) она всю жизнь дружила и спорила. Она спорила и с Шестовым, в отличие от Фондана. Фондан, кажется, и представить себе не мог, что можно спорить с Шестовым; его верность и преданность учителю, благоговение перед ним были непоколебимы, безусловны, с первой минуты знакомства до последней минуты жизни. Знакомство с Шестовым перевернуло и жизнь Беспаловой. Родившаяся в 1895 году, она принадлежала к тому же поколению, что и Фондан; отец ее, Даниэль Пасманик, врач и теоретик сионизма, был, кажется, давний, еще с киевских времен, приятель Шестова. В Женеве, где прошло ее детство (в России, по одним сведениям, она вообще никогда не бывала, хотя прекрасно говорила по-русски; по другим сведениям, в самом раннем детстве, до пяти лет, жила в Киеве), она закончила консерваторию, но почему-то (почему? в ее жизни много загадочного) бросила музыкальную карьеру, открывавшуюся перед ней, переехав в Париж и затем (в 1922-м) выйдя замуж за (я так понимаю: предпринимателя, что бы сие ни значило; подлинной и сколько-нибудь полной ее биографии не существует, так что приходится довольствоваться скупыми сведениями, разбросанными в разных изданиях) Шрагу Ниссима Беспалова (какие странные имена, но именно так называют его там и сям, в разных изданиях), которому (в 1927 году) родила дочь, Наоми. В 1925-м состоялось ее знакомство с Шестовым (через год после Фондана); ей было тридцать (Фондану в год знакомства с Шестовым двадцать шесть); в позднейшем письме другому своему другу, философу и поэту Жану Валю (Jean Wahl) она говорит о своем «философском пробуждении» (son éveil philosophique). «Я никогда не забуду моей первой встречи с Шестовым на rue de l’Abbé Grégoire», – пишет она уже после смерти учителя его вдове Анне Елеазаровне Шестовой. «Я пришла к нему с моим отцом. Из разговора я запомнила только две или три фразы Льва Исааковича. Уже тогда его речь пробудила во мне нечто, что уже не смогло заснуть…» Не смогло заснуть… В нас пробуждается нечто, что уже не может заснуть, даже если – хочет заснуть, даже если мы хотим, чтобы оно – заснуло; последствия этого пробуждения нам предугадать не дано. Уже по этой фразе виден уровень письма, точность, краткость и красота формулировок.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)