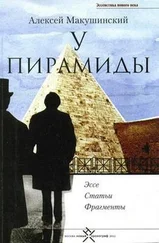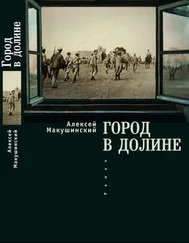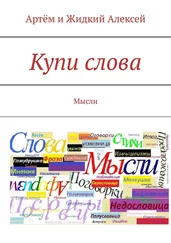Самой убийственной из всех самоубийственных фанатичек, святых и праведниц двадцатого века представляется мне Симона Вейль, симпатию к которой Камю я вовсе не разделяю (еврейки-антисемитки особенно мне отвратительны; евреи-антисемиты не менее); мы ведь не обязаны любить тех, кого любили те, кого любим мы сами. Мы вообще никого любить не обязаны. Любовь по обязанности – всегда ложь и фальшь. У Симоны Вейль никакой фальши нет; есть абсолютная, беспощадная честность; бескомпромиссный радикализм; готовность идти до последних выводов, кровавого конца, трагического финала. Но и любви у нее нет («монизм не знает любви»; не мешало бы всем нам хорошенько это запомнить). Есть сострадание – и есть ненависть; прежде всего, ненависть к себе самой (как человеку и как еврейке). Бог у Симоны Вейль – Нарцисс. Он может любить только сам себя. Он любит себя сквозь нас и через нас. А наша любовь ничего не стоит. «Любовь – знак нашей нищеты (нашего ничтожества, нашего несчастья: notre misère). Бог может любить лишь Себя. Мы можем любить лишь что-то другое». Возможность (или способность, или необходимость) любить что-то другое (кого-то другого) есть признак нашего ничтожества; логика поразительная! Она сама, насколько я понимаю, никого другого и не любила; любви в прямом и телесном смысле не знала, видимо, вовсе (еще один экспонат в нашей кунсткамере). А невозможна любовь к другому без любви к себе – старая истина, в очередной раз подтверждающаяся. Но Симона Вейль себя ненавидит, себя стремится уничтожить, разрушить, во всех смыслах, и в буквальном, и в переносном. «Потому что „я” – это „грех”. Живущий во мне грех говорит „я”. Я есмь все. Но это самое „я” – Бог. А вовсе не я. Зло производит различения и препятствует тому, чтобы Бог стал равнозначен всему». То есть это чистый, все тот же, монизм. Есть только бог и ничего нет рядом с ним. Если кажется, что еще что-то есть, еще кто-то есть, то это зло и грех. Надо убить себя и убить другого; вообще всех убить. Не удивительно, что известия о Голокаусте (Холокосте, как, увы, пишут теперь в России) не произвели на нее никакого впечатления и не вызвали никакого сочувствия. Слова «убить», «разрушить» и «уничтожить» с поразительной частотой повторяются в ее текстах. Вот особенно чудовищное место: «Мы не обладаем ничем иным в этом мире, – поскольку случай может все у нас отнять, – кроме способности сказать „я”. Именно ее-то и нужно отдать Богу, то есть разрушить. Не существует никакого другого дозволенного нам свободного действия, кроме разрушения „я”». Дозволенного, очевидно, все тем же Богом-Нарциссом; хотя и непонятно, зачем ему это понадобилось. А это, оказывается, проявление его несказанной любви к нам, ничтожным людишкам. «Творение – акт любви, и оно длится вечно. В любое мгновение наше существование – это Божья любовь к нам. Но Бог (как мы уже знаем) может любить лишь Самого Себя. Его любовь к нам – это Его любовь к Себе, прошедшая сквозь нас. Поэтому Тот, Кто нам дал бытие, любит в нас согласие не быть». Еще раз: бог любит в нас наше согласие не быть, то есть нашу готовность принести себя в жертву, то есть наше стремление к смерти, влечение к гибели. Божественный эрос обращен к человеческому танатосу. Божественный эрос оборачивается человеческим танатосом. Божественный эрос и есть человеческий танатос, более ничего. Любовь к нашему согласию не быть находит – как же иначе? – подобающие ей формы. «Неумолимая необходимость, нищета, бедствие, давящая тяжесть нужды и изнурительного труда, жестокость, пытки, насильственная смерть, принуждение, страх, болезни – все это – божественная любовь».
Тут следует заметить, что божественная любовь обошла ее стороной. Все свои бедствия она выбрала и выдумала сама; сама пошла работать на фабрику (чтобы узнать жизнь пролетариата); сама морила (и уморила) себя голодом; сама отправилась на Испанскую войну к знакомым ей анархистам (где пару дней всем мешала, потом, по близорукости, вступила в котел с кипящим маслом, получила тяжелые ожоги и была эвакуирована во Францию несчастными, перепуганными родителями). Эти же родители (богатые парижские образованные евреи; все ее подвиги были, в сущности, эскападами взбалмошной барышни) спасли ее от единственной настоящей опасности, угрожавшей ей в жизни, чуть не насильно увезя свою взыскующую гибели дочку в 1942 году из Марселя в Америку, откуда она всеми правдами и неправдами сумела попасть в Англию, чтобы начать работать на «Свободную Францию». Здесь она тоже, похоже, мешала всем, злила всех, бомбардируя начальство и не-начальство бессмысленными прожектами (мечтами о каких-то парашютистах, которые должны были куда-то полететь, где-то там прыгнуть, и она, в своих круглых очках, вместе с ними); «девица безумна», объявил в конце концов генерал де Голль со свойственной ему прямотой, простотой (bravo, mon général). В ее текстах и вправду чувствуется безумие, какое-то патологическое изуверство, помноженное на мегаломанию (что, впрочем, нередко случается), на трагикомическое убеждение, что сам Господь Бог вещает ее устами и потому все, что она говорит, истина, а кто думает иначе, должен быть если не прямо уничтожен, то предан суду (например, Жак Маритен, осмелившийся что-то такое сказать об античных философах, что ей не понравилось). Она пишет о «рас-сотворении», décréation, как противоположности «творению» (параллель к «рассуществлению», Entwerden, о котором говорил Мартин Бубер; к Entselbstung, о котором говорил Ницше; они-то говорили, отвергая; она – утверждает, славит и превозносит). Бог, значит, мир творит, а мы должны себя рас-сотворить, чтобы принести себя Ему в жертву. Он творит, а мы рас-сотворяем; стоило ли стараться? Потом она пишет об «отрешенности» (détachement) в противоположность всякой привязанности (attachement). Привязываться ни к чему нельзя (вполне по-буддистски); а надо от всего отрешиться, оторваться, покончить со всеми пристрастиями, привязанностями, да заодно и с собою. «Два способа убить себя: самоубийство или отрешенность (détachement). Убить мыслью все то, что мы любим: единственный способ умереть». Это отзовется потом у Камю: самоубийство просто и «самоубийство философское» – два, для Камю равно неприемлемых, способа ответить на молчание мира, абсурд бытия… О Камю чуть-чуть позже; вернемся к Бердяеву. Симона Вейль уморила себя голодом в 1943-м (нам этим тоже предлагают восхищаться, но мы восхищаться отказываемся; вообще Симона Вейль – священная корова так называемых западных интеллектуалов, и верующих, и неверующих, и «левых», и «правых»; писать о ней то, что я сейчас написал, и так, как я сейчас написал, значит обречь себя на всеобщую ненависть, изгойство и отщепенство; но мне все равно; не привыкать стать); ее самая известная книга (которую я и цитировал), «Тяжесть и благодать», вышла посмертно, в 1947-м, составленная из разрозненных записей неким католическим священником, которому она их передала перед отъездом, я так понимаю, из Франции и который радостно ухватился, еще бы, за такую радикальную, такую яростную, такую талантливую пропаганду самоуничтожения. Вряд ли наш любимый философ успел это прочесть. Успел бы, не сомневаюсь, что отверг бы очень решительно. То есть что значит: отверг? Конечно, у Бердяева как «христианина» было гораздо больше точек соприкосновения с этой человеконенавистнической чепухой, чем у нас, безбожников с вольными душами. Отрадно все-таки (и опять-таки) думать, что даже внутри христианской мысли он находится на противоположном полюсе от всего этого. Я потому еще привел эти отвратительные цитаты, что по ним можно, в сущности, изучать бердяевский персонализм. Бердяевский персонализм есть простая, прямая, прекрасная противоположность вот всему этому, этому культу смерти, этой страсти к унижению, уничтожению себя и других, этому тотальному, тоталитарному монизму, в котором теряются все различия.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)