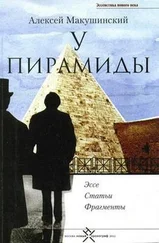Искусство, скажу еще раз, для серьезных дядей провокация и скандал. Искусство самим фактом своего беззаконного существования показывает серьезным дядям, что мир устроен не так, как они привыкли думать, устроен – иначе. Что-то не в порядке с этим миром, если есть в нем такая очевидно бесполезная, бесстыдно бесцельная, вопиюще ненужная вещь. Искусство в своей вопиющей ненужности, бесстыдной бесцельности – вечная противоположность всякой идеологии (религиозной, революционной); противоядие от всякой идеологии; противодействие, противомыслие идеологии (революционной, религиозной). Там, где начинается одно, другое заканчивается. Музы не уживаются ни со Святой Троицей, ни со Священным Террором. Эвхаристия не дружит с Эвтерпой, Мадонна и Мельпомена никогда не смогут договориться. Сакральные культуры никакого искусства не знают; знают лишь прикладное искусство, иногда очень – искусное, но все-таки прикладное, выполняющее их сакральные задания, архаические задачи. Вольное искусство, не служащее никому, означает конец сакральной культуры. Этот конец может долго длиться, закат долго гаснуть; тем не менее это закат (красный, розовый, бледный, зеленый). В основе любой идеологии, любой сакральности лежит требование абсолютного (Смысла, Истины). Искусство начинается там, где есть готовность принять, признать, оценить, полюбить относительность мира, его незавершенность, его открытость, предварительность всех выводов, приблизительность всех итогов. «Цельное мировоззрение» для искусства губительно. Философия, по Гейдеггеру, есть, вновь скажу, вопрошание, спрашивание, das Fragen; искусство, по крайней мере в этом отношении, ничем от философии не отличается. «Безыдейность» искусства есть его важнейшее свойство, основополагающая особенность. Конечно, Гейдеггер имел в виду что-то совсем иное, переводя греческую истину, «алетейю» как Unverborgenheit, «незакрытость», но ничто не мешает нам понять его именно так. «Истина», по крайней мере – «истина искусства», в незакрытости, в отсутствии ответа, в несказанности (с ударением на втором слоге; впрочем, ударение на третьем тоже годится) «последнего слова», в невозможности сказать «последнее слово», в ненужности «последнего» слова. Искусство всегда есть протест против «последнего слова», продолжение разговора, движение дальше. Оттого искусство, исходящее, наоборот, из презумпции сказанности – или сказанности (с ударением на каком угодно слоге) «последнего слова», из веры в возможность ответа , тем более из веры в собственное обладание ответом , из цельного мировоззрения и более или менее замкнутой системы взглядов, – такое искусство (соцреализм, правреализм, катромантизм… вариантов много, выбирайте любой) всегда сомнительно, всегда не совсем искусство. Это не значит, что оно невозможно. Когда начинаются сомнения (метания и колебания), когда чувствуется борьба живого поэтического голоса с усвоенными автором взглядами, тогда еще есть шанс. Чем дальше от ответа , тем более художник – художник, даже если он сам, как «человек», верит в какой-то (прав-, кат-, рев-, соц-) ответ, возможность ответа, необходимость ответа. По мере приближения к этому (кат-, соц-) ответу он становится все менее художником, а его тексты все более превращаются в иллюстрацию заранее заданных, поддающихся пересказу мыслей, выразимых иными словами и, как правило, уже кем-то выраженных иными словами. Случается, конечно, и так, что автор забывает об усвоенном им мировоззрении, преодолевает его изнутри, вкладывает в него свое собственное, не предусмотренное идеологией содержание. Вообще, разное может случиться, чтобы пробились ростки живой жизни, даже «деревья жизни», arbres de vie, цитируя Раису Маритен, там, где только что стояли мрачные мертвые стволы сухой теории, топорщились сучья сомнительного познания.
Говорить сколько-нибудь всерьез о стихах Лидии Бердяевой, по-моему, невозможно, так что я говорить о них и не буду. Раиса Маритен – не совсем то же самое. По большей части и она лишь зарифмовывает (очень простенько зарифмовывает) свои религиозные переживания, ни в каких рифмах не нуждающиеся («Я вложила мой дух в Божьи руки, мое сердце чисто, как воздух горных вершин, всё – свет», и так, увы, далее); но бывают если не прорывы, то проблески. Стихи о «деревьях жизни» мне просто нравятся, по крайней мере их финал, последние несколько строк. Уже то трогательно, что она описывает вот эти, мёдонские, деревья, на которые я сам смотрю, вот сейчас, на которые она смотрела, я так понимаю, из окна своего дома, все еще мною не найденного. Они ей являются как раз серыми, зимними, но с увитыми живым зеленым плющом стволами, «колоннами поэзии» (des colonnes de poésie), как не очень удачно она выражается. Эти колонны идут, может быть, от Поля Валери (от его незабываемой Cantiques des Colonnes в «Чарах»; так и Лидия Бердяева пишет по лекалам то Блока, то Ходасевича, подражая то «Двенадцати», то «Окнам во двор»); дальше все тоже довольно смутно; и только в последних пяти строчках (с отступом перед самой последней) стихи обретают то движение, оно же звучание, без которого никаких стихов нет и которое делает до некоторой степени не важным, на какие мифы опирается автор. Конечно (пусть простится мне сей трюизм), судить о стихах, написанных не на твоем родном языке, – дело довольно рискованное; мне все же кажется, что в этих строчках есть своя скромная магия; я часто повторяю их про себя:
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)