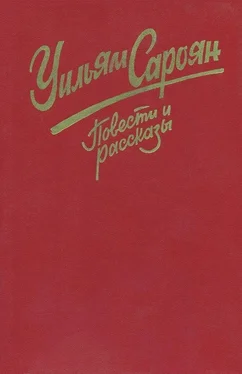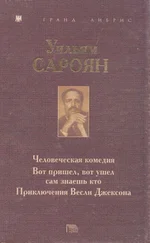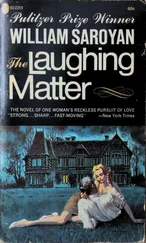Машина шла медленно, потом вильнула вбок и понеслась с совсем ненужной, бессмысленной скоростью, потом, тряхнувшись, затормозила у перехода. Люди потоком пересекали улицу. На тротуаре он увидел женщину с тремя ребятишками, она смотрела в небо и улыбалась. «Бог знает, какая тайна в этой улыбке», — сказал он сам себе, потому что с течением лет у него сделалось привычкой писать (или выражать словами) все то, что он видит, что ощущает и делает, и получалось, в сущности, — что ни день, то книга. Беда была, однако, в том, что скоро уже как три года он потерял охоту (или, может, способность) воплощать свои книги в написанные на бумаге слова. Ему казалось, что не так уж они важны и необходимы, чтобы этим стоило заниматься. Он начинал за эти годы десятки вещей, день-два над ними работал, потом бросал, испытывая при этом чувство облегчения. С друзьями он даже шутил на этот счет, говоря, что ему полагается награда за то, что, начав плохую книгу, он не доводит ее до конца. «Я служу литературе лучше, чем кто-либо из моих современников», — говорил он. И все-таки он знал, как сильно ему жаждется снова что-то сделать, что-то создать. «Писать я, в сущности, никогда не умел, не научился, — сказал он как-то одному критику, — и тем не менее мне всегда удавалось довести что-то до конца».
Избыток сил, переполненность — вот в чем секрет, вот что меня выручало, — подумал он. Но теперь уже не выручает. А может, просто теперь и нет ее. Переполненность решала все и у Томаса Вулфа [12] Вулф Томас Клейтон (1900—1938) — выдающийся американский писатель.
до конца его жизни, и у многих еще других, но, видимо, где-то к сорока ее не становится в человеке, или же не становится самого человека.
Машина снова рванулась вперед, в ту минуту как раз, когда он заметил на углу улицы усталого, растерянного на вид старика и узнал в нем очень известного писателя, чьи книги он читал еще мальчишкой и чье имя сейчас сразу же ему вспомнилось, хотя за последние двадцать лет писатель этот не написал уже ничего замечательного. Лет десять назад ему довелось как-то присутствовать на обеде, устроенном в ресторане Уолдорф с целью сбора средств в помощь политическим эмигрантам. Старый писатель пришел туда в качестве почетного гостя. Он был как мальчик, которого по случаю приглашения хорошенько умыли и причесали, и зубы у него почищены, и нос сухой, и ногти в порядке, и одет, как приличествует ситуации, в черное. Когда он появился, по нему видно было, что он как-то по-детски и рад, и смущен, его усталое лицо на мгновение просияло, в глазах проступило волнение, его представили публике, после чего он встал и заговорил, и Эндрю Лоринг впервые тогда услышал его голос.
Он ожидал увидеть в этом человеке гиганта, услышать от него что-то крупное и значительное, но старый писатель выглядел, как смущенный ребенок, и говорил, словно испуганный ученик, голос у него срывался, слова были плоские, нескладные, и его речь и само присутствие его производили одну неловкость.
Он говорил о самом себе, не заботясь о каком-либо смысле, говорил, казалось, все об одном и том же — о том, как одинок в своей жизни писатель, как горько сознавать, что ты уже не тот писатель, что прежде, как тяжело и стыдно быть старым писателем и как больно чувствовать волнение и радость оттого, что ты оказался приглашен на обед, цель которого помочь нашим европейским собратьям-писателям, терпящим притеснения от глупых правительств. Хуже всего было, однако, что состарившийся писатель то и дело тщился произвести впечатление молодого, показаться все еще полным сил, остроумным, способным возвысить голос и энергично поддержать справедливость. Он пытался приправлять свою речь шутками, но от жалких его шуток делалось тошно.
Старик говорил, повторяясь, уже чуть ли не час, и все за столом потихоньку начали ерзать и переглядываться, а кто перешептывался, шуршал газетами, вертел бокал или поигрывал ложкой, и наконец тот самый молодой критик, который и представил его публике, шепнул ему что-то на ухо, и старик улыбнулся и произнес: «Мне только что подсказали, что выступление мое затянулось». Лицо его как-то сразу сделалось старческим и оскорбленным, и он сказал очень тихо: «Что правда, то правда, я заболтался. Что-то мне хотелось сказать, но что, я забыл». И с этими словами он опустился на место.
По окончании обеда Эндрю Лоринг подошел к старику, представился ему, и тот сказал: «А знаете, я припомнил теперь, что мне хотелось сказать. Никому из нас нет до других дела. Вот хотя бы те самые писатели в Европе, для которых сегодня собираются деньги… Вы думаете, хоть кто-то из них, поправив свое положение, оглянется вокруг — а нет ли кого, кому приходится еще хуже, кому он сам бы помог? Мне попросту не следовало являться на этот обед, ибо глупое это вообще дело — быть писателем. Знаете, — хихикнул старик, — когда я был еще мальчишкой, я думал, что книги написаны богом. Никто другой не может и не должен писать их. Мы самозванцы и только».
Читать дальше