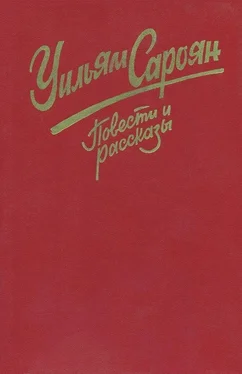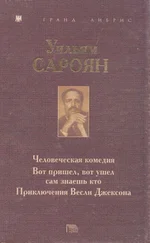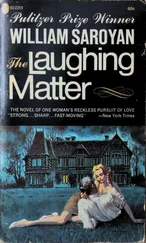Звук от дробовика был в десять раз сильнее, чем от винтовки.
— Дай-ка мне на этот раз дробовик, — сказал я брату, и мы поменялись ружьями.
— Кому будет салют? — сказал он.
— Моему отцу, — сказал я и нажал на спуск. Отдача была сильнейшая.
— А теперь моему отцу, — сказал брат.
Мы выстрелили.
— Моей бабушке, — сказал я.
— И моей бабушке, — сказал брат.
— Григорию Просветителю [8] Григорий Просветитель — распространитель христианства в Армении (IV в.).
, — сказал я.
— Петросу Дуряну [9] Дурян Петрос (1852—1872) — классик армянской поэзии.
, — сказал брат.
— Раффи [10] Раффи (Акоп Мелик-Акопян, 1835—1888) — классик армянской литературы, романист.
, — сказал я.
Мы прошли еще немного, остановились и снова стали называть имена и стрелять.
— Андранику [11] Андраник (Озанян Андраник, 1865—1927) — деятель национально-освободительного движения армян, военачальник; с 1922 г. жил в США, во Фресно.
, — сказал мой брат.
— Хечо, — сказал я.
— Бедный Хечо, — сказал мой брат по-армянски.
— Мураду, — сказал я.
И так мы просалютовали в честь многих еще армян — писателей, ученых, воинов и священников. Просалютовали в честь многих замечательных людей, умерших уже давно или недавно.
Мы закатили посреди холмов грандиозную трескотню, но все сошло прекрасно, потому что ни души вокруг не было.
Когда мы вернулись к машине, пиво уже, конечно, было не такое, как утром, холодное, но все-таки еще свежее и приятное для питья.
Мы выпили что оставалось, и брат завел машину, и мы сели и поехали от холмов в теплую, тихую, чудную долину, в единственную для нас на земле долину нашего дома.
В свои одиннадцать лет Мэйо Мэлони был небольшого роста парнишка, не то чтобы еще по-мальчишески грубый и неотесанный, а просто — сама неотесанность, ибо даже, например, в церковь не мог войти он так, чтобы не вызвать у всех, кто в это время на него взглянет, неловкого ощущения, что он, Мэйо, презирает и это место, и его назначение.
И то же самое бывало всюду где появлялся Мэйо: в школе, библиотеке, театре, дома. Только мать чувствовала, что Мэйо совсем не грубый мальчик, отец же, не раз случалось, просил его не слишком-то задаваться и вести себя так, как все. Этим самым Майкл Мэлони хотел сказать, что Мэйо следует смотреть на вещи спокойнее и не проявлять ко всему на свете столь критического отношения.
Мэйо был самоувереннейший мальчик на свете, и на все вокруг он смотрел как на нечто неполноценное — такое, по крайней мере, складывалось впечатление. Что-то не то и не так обстояло, на его взгляд, с активностью его матери в лоне церкви, с увлечением его отца Шекспиром и Моцартом, с системой школьного обучения, с правительством, с Соединенными Штатами, с народонаселением всего мира. И обнаруживал он эту неполноценность всего на свете, не давая себе труда вникать в какие-то там детали. Он обнаруживал ее просто своим существованием, присутствием. Тем, что вот такой он нервный и раздраженный, такой нетерпеливый, быстрый и так ему все наскучило. Короче говоря, он был самый нормальный мальчишка. Он испытывал презрение ко всем и всему и ничего не мог с этим поделать. Это презрение было невысказанное, но вполне очевидное. Он был худенький, смуглолицый и темноволосый, и всегда в состоянии нетерпения и спешки, потому что все, с чем он сталкивался, было таким медленным, таким невыносимо тупым и вялым.
От одного только он не испытывал скуки — мысли об охоте, но не похоже было, чтобы отец купил ему винтовку, ну, хотя бы одностволку 22-го калибра. Майкл Мэлони сказал так — сначала он должен увериться, что Мэйо немножечко поостыл, успокоился, а потом уже подумать о покупке ружья. Мэйо постарался немножечко успокоиться — ради того, чтобы получить ружье, — но прекратил свои старания через полтора дня.
— Пусть так, — сказал отец. — Если ты не хочешь винтовку, то и не нужно тебе стараться заработать ее.
— Я старался заработать, — сказал Мэйо.
— Когда старался?
— Вчера и сегодня.
— Я имел в виду, — сказал Майкл Мэлони, — испытание сроком хотя бы в месяц.
— Месяц? — сказал Мэйо. — Но как же мне оставаться спокойным весь октябрь, когда в это время можно поехать пострелять фазанов?
— Не знаю как, — сказал Майкл Мэлони, — но если ты хочешь винтовку, тебе следует успокоиться. Иначе я не могу быть уверен в том, что ты не перестреляешь наших соседей. Ты думаешь, мой отец позволил бы мне сесть за обед или ужин, не сделай я что-нибудь, чтобы их заработать? Он не предлагал мне заработать винтовку для охоты на фазанов. Он велел, чтоб я зарабатывал свое пропитание и одежду, и он вовсе не дожидался, когда мне стукнет одиннадцать. Он потребовал этого, когда мне было не больше восьми. Беда в том, что тебе ничего не приходится делать ради своего пропитания, одежды и крова, иначе бы ты уставал порядком и был бы нормальным человеком, как все. Сейчас тебя и человеком почти что не назовешь. Разве человек тот, кто даже понятия не имеет, как трудно добывается хлеб наш насущный и прочие необходимые в жизни вещи? Это мы, твои родители, виноваты, что ты у нас такой неудовлетворенный и саркастичный, а не спокойный, милый, приятный мальчик. Весь город говорит о том, как твои папа и мама сделали из своего сына самоуверенного невежду, потому что освободили его от всякой необходимости заработать для себя право судить о вещах.
Читать дальше