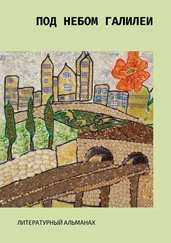По кибуцным понятиям мой рабочий день начинается поздно, в семь утра. Руководит швейной артелью Далия — боевая женщина в цветастом халате до колен и в высоких шнурованных ботинках.
Раньше мне нравилось печатать на композере, а теперь нравится строчить на электрической промышленной швейной машинке, у которой четыре иглы и которая одновременно обрезает край, сострачивает и обметывает. Некоторый неизбежный для каждой модницы в стране повального дефицита опыт шитья у меня имеется, а теперь под руководством Далии я учусь шить детскую одежду, наша мастерская обшивает с головы до ног всех ребятишек в хозяйстве. За соседней машинкой сидит одна из основательниц кибуца, древняя, но по-прежнему боевая бабка Эстер. Задача Эстер — передать уникальный опыт становления кибуцного движения новому поколению покорителей пустынь и болот, то есть мне. Поэтому старуха пошьет минут пятнадцать, потом отрывается от машинки, пихает меня в плечо, отчего моя строчка летит в кювет, и тыкает рукой в окно, указывая на толстого старика, подстригающего кусты, и рассказывает, как еще в тридцатые годы они с этим самым Ициком прятали нелегальных беженцев из Европы от владевших тогда Палестиной британцев.
— Англичане тогда в конец озверели, всех беженцев вылавливали и сажали в лагерь в Атлите. Мы подзывали лодки с берега фонарями и укрывали новичков в кибуце. — Государству Израиль уже целых тридцать лет, и мне странно, что со мной беседует живой участник исторического прошлого. — А на следующий день они явились с обыском! Помню, один плюгавенький солдатик особо усердствовал! Я ему говорю: ты еще у меня под юбкой посмотри! — Эстер трясет подолом над тощими ногами, и становится ясно, что несчастный британец не избежал необходимости заглянуть туда.
— А что стало с теми, кого в Атлит заключили? — с замиранием сердца спрашиваю я у отважной спасительницы.
— Атлит в сорок пятом вместе с Ицхаком Рабином наш Нахум из Бейт-а-Шита захватили и силой освободили заключенных. Все потом большими людьми стали… Наш Нахумчик больше всех преуспел, — надтреснутый голос голос Эстер взвился потрепанным флагом. — Мало того что в Войну за независимость и Беэр-Шеву, и Эйлат у египтян отбил, он потом еще и секретарем Кибуцного движения стал! И все это в то время, как некоторые в Тель-Авиве в кафе посиживали! — Этот камушек Эстер бросает в огород Пнины, другой работницы пошивочной мастерской.
Пнина тоже старушка, но городская, без геройского прошлого. Она мать кибуцника Дрора, он привез ее сюда доживать свой век. В кибуце все, кто могут, должны работать, пенсионеры тоже. Им дают посильную работу, всего на четыре часа в день. Эстер почти ничего не видит, руки у нее трясутся, и шитье ее соответствующее. К моей продукции Далия предъявляет требования парижского кутюрье, заставляя вновь и вновь распарывать швы младенческих комбинезончиков. Но от Эстер она молча принимает гору сикось-накось состроченных простынь, хотя после обеда ей приходится большую часть этого безобразия перешивать самой. Потому что, если Эстер не сможет работать даже здесь, ее приговорят к одинокому безделью в ее комнате, и Далия не может допустить столь бесславного конца этой героической жизни. Обе старушки обычно начинают шить и воевать с раннего утра, так что к полудню, когда и солнце, и пререкания достигают максимального накала, их рабочий день заканчивается, и антагонистки разбредаются по своим комнатам обдумывать завтрашнюю кампанию.
— Не знаю, кто в кафе сидел, а я была педагогом! — важно заявляет Пнина. — Я закончила семинар Гринберга и всю жизнь несла в народ просвещение! И времена, когда кибуцы были соль земли, давно прошли! Нынче страну город двигает, а не деревня!
— А чего ж тогда ты к нам на старости лет явилась? — ехидно прищуривается Эстер.
— Не к «вам», а к родному сыну! И пенсию свою принесла, — парирует Пнина, сверкая очками.
— А что ж твоему сыну в Тель-Авиве-то не понравилось?
— Дети, Эстер, нас не спрашивают, где им жить. Уж тебе-то это известно, — поджимает губы городская прихлебательница.
Ахиллесова пята идеологически неколебимой Эстер — Ронен, младший из двух ее сыновей, бросивший родной кибуц ради портового города Хайфы. Мы догадываемся, что Эстер страшно переживает семейный позор. Она тоскует по внукам и страдает от того, что ничем не может помочь сыну, а больше всего от того, что Ронен отказался следовать материнской единственно верной стезей. Но Пнине она в этом ни за что не признается. Зато заметив, что я впитываю в себя ее рассказы, как песок воду, Эстер скромно замечает:
Читать дальше
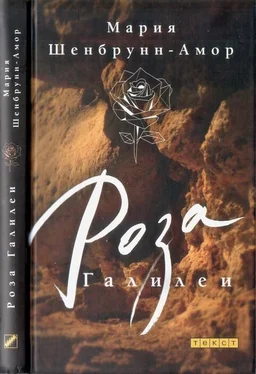





![Мария Камардина - Роза ветров [СИ]](/books/388308/mariya-kamardina-roza-vetrov-si-thumb.webp)

![Мария Амор - Смертельный вкус Парижа [litres]](/books/432915/mariya-amor-smertelnyj-vkus-parizha-litres-thumb.webp)