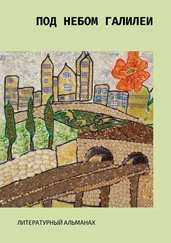«Because I’m bad, I’m bad — come on», — уверяет Майкл Джексон.
Худой мир лучше доброй ссоры, угощаться на халяву лучше, чем убивать. Лучше оправдывать Фареса, чем признаться, что судьба безошибочно вывела морально неустойчивую девушку на единственного в военной израильской администрации человека, неспособного устоять перед дармовыми ужинами.
«You know I’m bad, I’m bad», — упорствует радио.
В стылой, сырой постели наши тела нагрели уютное гнездо, но стоит руке или ноге высунуться из-под одеяла, она сразу окунается в жидкий азот холода.
Я все же знакомлю Фареса с некоторыми людьми из моего окружения. Даже с целой армией:
— Ричард Львиное Сердце, когда захватил Акко, казнил почти три тысячи сдавшихся мусульманских воинов, за которых Саладин уже уплатил часть выкупа и которым была обещана жизнь. А затем вывел христианскую армию в поход. Под августовским солнцем, в плотном войлочном исподнем, в шлемах и кольчугах, две недели шли его воины по берегу моря от Акко к Яффо, а не доходя пятнадцати километров до сегодняшнего Тель-Авива приняли бой с армией Саладина. Благодаря железной дисциплине и невиданной отваге Ричард Львиное Сердце победил, и его победа позволила христианам владеть берегом Палестины еще столетие.
Фарес, чьи предки в те времена, наверное, жили в Галилее и служили франкам, взбивает кулаком подушку и высказывает свое мнение:
— Правильно казнил. Если бы этот Львиный Ричард потащил с собой всех этих пленных, он бы никуда не дошел, а отпусти он их — у Салах-а-Дина тут же прибавилось бы три тысячи солдат. Чтобы удержать страну, ему необходимо было развязать себе руки.
Друзы были свирепыми и безжалостными воинами еще в те века, когда служили франкам или когда охраняли от них Бейрутский порт.
— Да, такая у рыцаря работа — сражаться и убивать. Подвинься. И отдай одеяло.
В его объятиях приятно и тепло. Пока я с ним, я почти не думаю ни о ком другом. Но при свете дня Фарес блекнет, исчезает. Есть еще друзья, родные, работа, учеба, книги, фильмы. Да мало ли что или кто. Не хлебом единым жив человек, в конце концов.
Иногда он исчезает надолго. Потом появляется как ни в чем не бывало, без предупредительного звонка, гулко стучит в железные врата. Если я не открываю, он уходит, не обижаясь, но мне одиноко, и часто я предпочитаю общество красивого офицера гипнотизированию онемевшего телефона в сигаретном дыму под сердцещипательную музыку. Слабость наших беспринципных характеров крепко держит нас вместе.
На этот раз — аллилуйя! — мы едем не в арабский ресторан, а в патриотичную, как кактус сабра, забегаловку у рынка Махане Иегуда. Вечером это чрево Иерусалима пустует — закрыты торговые ряды, рассосалась вечная пробка на самой уродливой и самой живой артерии города, улице Агрипас. В мусорных баках гниют отбросы, шныряют бездомные кошки, ветер гоняет обрывки газет. Только духаны фалафелей и шаурмы заманивают прохожих теплом, запахом, светом и музыкой. Присаживаемся на жесткие стулья за ободранный пластиковый столик, сверху, мигая, слепит флуоресцентная лампа. На жаровне шипят и брызгаются куски говядины, печень, почки, отрезанная бахрома мяса. Порывы студеного ветра из постоянно распахивающейся двери сдувают густой дым. Сквозь питу капает на куртку сок соленого огурца и жир жилистого стейка. Нам не о чем говорить, но оглушительные восточные мелодии из транзистора заменяют беседу.
Еврейский духанщик на рынке не связан с военным начальником гражданской администрации Иудеи и Самарии многовековыми традициями межобщинных отношений, а главное, ему вряд ли придется брести к Фаресу на поклон с просьбой разрешить ему отлучиться в Иорданию. Поэтому он без зазрения совести взимает с моего кавалера полную стоимость съеденного.
Возвращаясь к джипу, проходим мимо концертного зала «Бейт-а-Ам» — «Народный дом». Совсем недавно в обмен за несомое иерусалимскими массами изрядное бремя городских налогов ретивый муниципалитет привнес современную культуру в самые глухие уголки столицы. Среди трех пальм на крохотной площадке у «Народного дома» благодетели и радетели расположили модерную скульптуру из соломы — лежащих на боку, тесно прижавшихся друг к другу мужчину и женщину.
Фарес оценил:
— Это мы с тобой.
Я не возразила. У Фареса только имя рыцарское, а характер и впрямь соломенный. Смелое новаторство привлекло внимание религиозного населения окружающих кварталов, вызвав не столько понимание новых концепций и благодарность отцам города, сколько недоумение и возмущение. В результате к наступлению царицы-субботы от похабного шедевра осталась лишь металлическая арматура и копоть, которую сейчас потихоньку смывает моросящий дождь.
Читать дальше
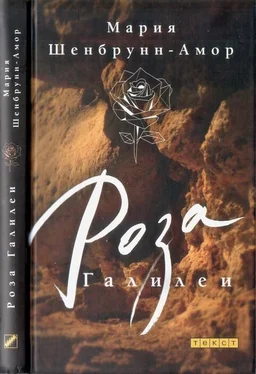





![Мария Камардина - Роза ветров [СИ]](/books/388308/mariya-kamardina-roza-vetrov-si-thumb.webp)

![Мария Амор - Смертельный вкус Парижа [litres]](/books/432915/mariya-amor-smertelnyj-vkus-parizha-litres-thumb.webp)