1 ...6 7 8 10 11 12 ...212
Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви 26.
В то время я много занимался Владимиром Соловьевым и его окружением, вскоре написал диссертацию о его племяннике, поэте-символисте Сергее Соловьеве, и даже подружился с дочерью поэта, внучатой племянницей философа Наталией Сергеевной. Кондратьев знал о моих интересах и как-то сказал поразившую меня фразу: «Все-таки Владимир Соловьев был настоящим мужчиной – любил Софию» (Премудрость Божию, с которой, как утверждал Владимир Соловьев, у него был медиумический контакт 27). Эта любовь к Софии-Премудрости странным образом возникнет в сюжетной прозе Кондратьева – о чем см. ниже, в разговоре о книге «Прогулки».
В аллюзийном же треугольнике в начале «Чая и карт-посталей» Бальмонт (и через Бальмонта Бл. Августин) – Мандельштам – Соловьев главное, конечно, «солнце любви», восходящее «золотым утром», побеждающее время и смерть. Объяснение тому, почему я берусь это утверждать, будет дано чуть ниже, через несколько абзацев.
Другая отсылка в самом начале текста, о котором я вынужден говорить подробнее прочих, ибо в нем – ключ к поэтике Кондратьева, – это «девушка, платье её состояло из глаз, широко раскрытых»: аллюзия на известный всякому, кто хоть чуть-чуть интересовался немым кино, танец в клубе Йошивара в «Метрополисе» (1927) Фрица Ланга. Танцующая буквально прошита насквозь, одета «широко раскрытыми» глазами вожделеющих мужчин 28. Бальмонт 29, Мандельштам, Ланг и даже Владимир Соловьев, умерший в 1900‐м, но о мистических приключениях которого его племянник Сергей поведал в книге, написанной в 1922–1923 годах, – это все отсылки к атмосфере 1920‐х годов, как и еще три, может быть, самые важные аллюзии в тексте.
В 1990‐м Глеб Морев, в ту пору научный сотрудник только что созданного Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, работал с бумагами О. А. Гильдебрандт-Арбениной и делился находками с нами, его друзьями. Среди бумаг оказался ныне известный альбом с автографами писателей, в который было вписано датированное 11 января 1930 года стихотворение Михаила Кузмина, посвященное владелице альбома и начинавшееся со строк:
Сколько лет тебе, скажи, Психея?
Псюхэ милая, зачем считать? 30
У франкофила Кондратьева кузминская «психея-псюхэ» становится, как я уже отмечал, «псише», но этим отсылки к Кузмину и Гильдебрандт-Арбениной не ограничиваются. Зеркальный восходу дневного мужского солнца «восход (Гекаты)», как он поименован во второй части «Чая и карт-посталей», т. е. лунного и предающегося магии женского божества, не вполне очевидным для невнимательного читателя образом связан с утверждением в третьей части «Чая и карт-посталей», что «кровь имеет куриный запах». Между тем и то и другое – аллюзии на строфу из второй части «Луна» поздней поэмы Михаила Кузмина «Для Августа»:
Тебя зовут Геката,
Тебя зовут Пастух,
Коты тебе оплата
Да вороной петух 31.
Иными словами, «восход» лунной Гекаты требует принесения ей в жертву «вороного петуха», и потому «жертвенная кровь имеет куриный запах», что перекидывает мостик к третьей и самой важной аллюзии «Чая и карт-посталей», содержащейся в заключительной строке:
Она пишет тебе, мёртвому, спустя десятилетия.
Речь тут идет о другой находке Морева – написанном в феврале 1946 года, в абсурдной и отчаянной надежде, что адресат его жив, письме возлюбленному Гильдебрандт-Арбениной и многолетнему спутнику Кузмина Юрию Юркуну. Логика Гильдебрандт-Арбениной была проста: если Юркун еще жив в одном из лагерей ГУЛАГа, то такое письмо, даже неотправленное, сделает их ближе. Ясно помню, какое сильное впечатление это письмо производило на читавших его 32. На самом деле адресат письма был расстрелян 21 сентября 1938 года вместе с другими литераторами: Бенедиктом Лившицем, Валентином Стеничем и Вильгельмом Зоргенфреем, обвиненными в участии в антисоветском заговоре, якобы возглавлявшемся Николаем Тихоновым, – но Гильдебрандт-Арбениной об этом еще не было известно. Политические ужасы XX века вторгаются в то, что может показаться герметичным изложением не слишком понятной любовной истории. Вообще Кондратьев никогда не стоял «выше политики», более того – был глубоко убежден, что лагерный опыт и многократность пережитого насилия решающим образом повлияли на советскую ментальность.
Где же в «Чае и карт-посталях» лирический герой? В общем, нигде. В части первой употреблено некое неуверенное, заключаемое в скобки «(мы)», в части второй возникает даже «я», а в частях второй и третьей присутствуют некие «он» и «она», при этом трудно сказать, один ли это «он» или их несколько. Кондратьев словно опасается слишком частого использования личных местоимений. В противоположность ожидаемой от поэзии субъективности текст «Чая и карт-посталей», как и тексты других его стихов того времени, скорее «объективен» или, во всяком случае, избегает субъективности в тоне изложения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
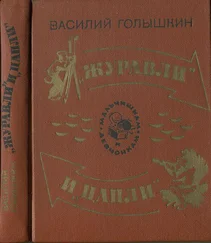

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

