С моих слов записано верно. Я мог бы этим закончить, если бы то, что я рассказал, было настолько неправдоподобно, что не случилось бы и со мной. Я никогда не стал бы писать о том, кто, удерживаясь за шасси, выдержал шестичасовой перелёт над океаном или кого всей швейцарской семьёй Робинзон оставили на озёрах в Африке. Но суеверные опасения, кошмары ребёнка, которому показали мумию, заставляют писать, освобождаться, пока моё любопытство не пересилит здравый смысл. К тому же, когда я прочёл у Пико делла Мирандолы о «поцелуе смерти», или «союзе поцелуя», у меня начались проблемы с женой.
Я верю, что чем больше я буду проникать в жизнь моего покойного приятеля, входить в его роль, тем вероятнее, что он своей гибелью спасёт меня, как каскадёр, подменивший собой камикадзе. В конце концов, если вспомнить стихи Дени Роша, он был «действительно королевский пилот».
1991
Книжка, забытая в натюрморте
Гадать на прошлое – вот бесполезная, никому не впрок, трата времени. По смеху, в походке, по семи знакам на стопах – и из шёпота некромантических звёзд, выдающих секреты, – предчувствие, слабый попутный магнит, не вернёт вспять; карты лягут из ниоткуда. Ни «славная рука» висельника, ни свеча из ослиного семени не просветит в этих потёмках, пока те распускаются здесь и там в странных событиях и портретах. Как говорится, сеют на всякий ветер.
Есть зачарованные лица. Они как зеркало гадания, по которому зеленоватые искры воображения вьются, напоминая легенды, картёжные пассы, балет – всё, что составляет развязки, страсти или роман. Не в письмах, вовсе не на бумаге – и не такой, после которого остаются засохшие цветики и сувениры.
На память придёт вдруг, со дна. Лицо возникает на чёрном экране: бледное и неспокойное, губы дрожат – лицо внезапно и неловко знакомое, напоминающее сразу все «горести любви, которым длиться век». Но это ярмарочный «фантасти´к», аппарат, показывающий из‐за тёмной ткани неверные картины свечки «волшебного фонаря». Китайские тени трепещут, как волосы горгоны; золочёный вертеп с куклами злого царя иудейского и его сарацинов, фокусник с головой на блюде, обычный святочный балаган.
И мы же знаем, что Саломея не та, которая танцевала во дворце Ирода, не леди, не парижанка, не та барышня: ведь в краях Речи Посполитой её имя чаще Юлия и Катарина. И что Польша, Галиция… её имя, рассеянное в картинах Винчи, Дюрера, Рубенса, Тициана, музыкой Глазунова, Штрауса и Хиндемита. Даже Бёрдслей, которому Уайльд написал, что он один понял её и «танец семи покрывал», не читал той пьесы, которую иллюстрировал. Сам Уайльд, искавший её везде, где можно найти хотя бы слово, часами стоявший на улицах, ближе к вечеру, в ожидании Саломеи, на Монпарнасе, у цыган, рассматривая румынских акробатов и парикмахерских кукол, – говорил об «апокрифе из чёрной Нубии», где другой письменности, кроме болота и крокодилов, нет. Ведь эта царевна смущает нас, как гадание, как может смутить только своё – пристрастное – прошлое. Постыдная память, в образе лучших времен дошедшая на сегодня как повесть, из которой рука лицемера пощадила одни неяркие картинки. С тех пор она «пожелтела» и смотрится броско, как афиша варьете или жёлтая французская обложка романа «стрáстной» серии, замеченная походя, в боковом переулке. Но остановишься, с упрямым и необычным чувством, каким когда-то желтели на подвальных дверях бумажки, спящие мотыльки, приглашая вниз, в азиатские заводи, курильщиков чёрного табака. Откуда же это лицо, из каких краёв, с какой Крайней Туле, по ту ли, по эту сторону Тулы его искать? Так бродишь по весеннему Петербургу, вглядываешься в прекрасные женские маски его фасадов, за которыми ничего нет. Будить петербургскую память – всё равно что тревожить с юности дряхлого наркомана, сомнамбулу, у которого я и не я, было и не было – всё смешалось.
Легко понять, как я был удивлён, прогуливаясь по Летнему саду, – вообще по природе своей место всяческих встреч и завязок, – мимо «чайного домика», когда за окнами разглядел мятую афишу с женщиной в восточном уборе. В её взгляде была такая трагедия, какая-то пожилая и с виду невинная в стиле кейк, – а она сама так причудливо и вдруг напомнила мне и героиню из Гюстава Моро, и Марью Моревну, и «знаменитую Женщину-змею», – что было не удержаться зайти. Конечно, никакой дамы не оказалось; два брата, тульские живописцы, показывали здесь работы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
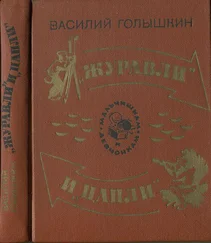

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

