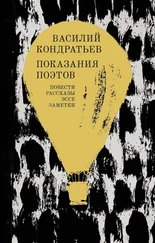<
1993 >
<3. Владимир Кучерявкин . Танец мёртвой ноги>
Эту первую благополучно вышедшую в свет книгу стихов Владимира Кучерявкина – предыдущая не пережила лучших дней «Советского писателя», что, может быть, и показательно, – хочется назвать дебютом не самого автора, а его, будем верить, заинтересованных издателей. Для тех, кто уже давно следит за работой этого поэта, прозаика и переводчика, знает его редкие публикации, эта книга – долгожданное приобретение, первый шаг в знакомстве с большой сложившейся поэзией.
Значимость поэзии Владимира Кучерявкина определяется по неприменимости к ней формального подхода: она находится вне экспериментальной или нормативной самодостаточности более «литературного» творчества. Автор, её лирический герой, одинок и в жизни, и перед листом бумаги. (Так же как были одиноки «проклятые поэты» или экспрессионисты прошлого.) Это поэзия, неразделимая и значимая в своём корпусе, складывающаяся, как повседневная жизнь, из путаных повторяющихся дней. Своеобразный поэтический дневник, где безжалостное наблюдение и его очевидный гротеск являются средством жить, – это, вероятно, лучший вызов сегодняшнему обществу и то, что может ему дать поэт: искусство безнадёжности. По крайней мере, мрачные, но необходимые, как глоток водки на морозе, слова Кучерявкина – это та самая брань, с которой происходит и развивается наша жизнь.
Не заглядывая далеко, нам уже сейчас необходимо ощущать реальность происходящего ближе и чище, чем позволяют, с одной стороны, газетная и телевизионная хроника, а с другой – не выдерживающее времени самовыражение. Владимир Кучерявкин решает эту задачу средствами, которые мы привыкли считать поэтическими, и это значит, что по сути ничто не меняется ни в жизни, ни в нас самих. Как бы ни было обречено это общество, по прошествии лет именно в поэзии оно останется таким, каким было.
<
1993 >
Всё, составляющее смысл моей жизни, убеждает меня в том, что я жив по законам, которые Агвиллон в своей «Оптике» называет орфографической проекцией вещей. Ночью и особенно днём я часто испытываю видения, кошмары, которые выражаются в более или менее связных фразах, за которыми не складывается никакой картины.
Название «Прогулки» наиболее удачно, на мой взгляд, определяет жанр составивших эту книгу вещей, которые иначе можно назвать эссе, рассказами или стихотворениями в прозе.
Некоторые из этих текстов печатали, кроме «Митиного журнала», «Звезда Востока», «Collegium» и «Место печати».
Я рад, что в эту книгу вошла графика Виктории Урман-Куслик, которую я бы рассматривал не как иллюстрации, а скорее как продолжение того содружества, которым были наши перформансы «Заветная мода» и «Русское Таро» – показанные, соответственно, в Запасном дворце в Пушкине и в Шереметевском саду Петербурга.
В. Кондратьев
Если принять, что сегодня, как и некогда, путешествие означает для человека в конце концов выход – то чем хуже или ничтожнее его побуждения, тем больше какой-то страсти и своеобразного упоения, чисто физических. Ведь и воспетый акт в общем неэстетичен. То и другое сближают плачевные результаты. Поэтому жалкая, вполне постыдная цель поездки в лучшие-то времена неповоротливого Луки не стоила своего рассказа, да и такого утомительного пути, на исходе терпения нашего друга у тускло мелькающего окна всё глубже забываясь в спёртом полусне напоминающего камеру купе поезда. Этот поезд шёл уже бесконечно, то ли и правда по полю без края – то ли, согласно административной инструкции, железная дорога петляла, уклоняясь в некие разве что из космоса различимые символические фигуры – чтобы страна, таким образом, расступалась перед заключённым пассажиром в истом смысле своего имперского расстояния, скрадывающего и дни, и ночи, и само время. Точнее сказать, ночь выглядела из окна купе всего лишь как очередная область, даже район, в следовании однообразной равнины развалин и деловых построек – и только названия станций давали заметить вроде бы естественное в поезде (да и заложенное в самом пейзаже) продвижение вперёд. Они сменяли друг друга сперва забавно или исторически, как в учебнике, – но, постепенно удаляясь от знакомого смысла, всё более варварские шипящие и гортанные, – слова, а скорее шорохи чужого враждебного языка, придающие своей русской азбуке загадочность каббалистических знаков. Почти незаметно и уже примелькавшиеся местные лица, вторгающиеся в духоту и толчею вагона с газетами и кислым пивом, приземились и грубели, их возгласы становились всё громче и непонятнее, а глаза сужались или оплывали с тошнотной поволокой. У Луки роман подошёл к концу. Поначалу он тупо лежал, задыхаясь на своей полке, пересчитывая былые пасьянсы и поминая тюрьму «Кресты», где подруги передают в таких случаях узникам тёплые носки, пропитанные настойкой опиума. Ночью стал выходить в тамбур, глотать в разбитые стёкла холод луны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
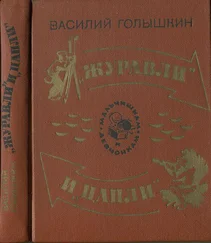

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)


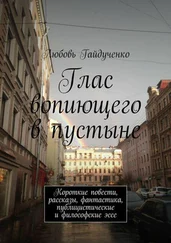
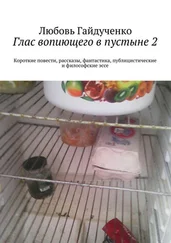
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)