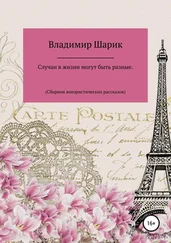И в любых других положениях — в поезде, скажем, отдыхая на даче, находясь безотлучно при жене своей Алле, ухитрялся он делать свое главное дело. Даже отпущенный к вечеру в озеро, искупаться в сумерках при. ее наблюдении, умел он, отойдя ненадолго полоскать свои плавки, заметить в полной темноте нечто светлое, в чем немедленно различал он стоявшую женщину. И тут же, сказавши вполголоса несколько слов, узнав, что зовут ее странно — Валеркой (Валерия, что ли? — ну да же, Валерка), умел он сейчас же ее обнимать, на что она тоже обнимала его, и стремительно следовало все остальное, вплоть до самого полного, прекрасного конца, с усиленным вглядыванием после друг в друга, с ощупыванием, ошариванием пальцами по лицу и по телу — какой ты? а ты какая? ты красивый? а ты? и я красивая тоже — тогда как и светлое уже не белелось, настолько полная стояла всюду тьма, и темные, многие, проходили люди в полуметре от них, и где-то вблизи властным голосом Аллы приглашали его для расправы над ним. И условившись наскоро с нею о встрече, завтра не мог он на встречу попасть, так как не был отпущен уже ни на шаг, а больше не мог ее найти никогда, не имея понятия о лице и о прочем, только на ощупь цыганские серьги, только большая на ощупь, под пальцами грудь, однако пальцами нельзя ее искать среди женщин, да и может свободно получиться ошибка; и она никогда не узнает его, ибо ласкались, не видя друг друга, в полной темноте окружающей жизни.
Но и это не огорчало, потому что его получили сполна, а в себе дальнейшем был он прочно уверен: вот отпустят его на минуту, он пойдет, куда захочет, и ноги сами приведут его к женщине, с которой будет немедленно все, что захочет — потому что такое его назначение.
11. Все, что не может сбить с толку
Веру же в него, в это назначение, ничто не могло уже в нем изменить. Не могла даже встреча с одним очень старым и печальным человеком, который узнал в нем союзника и, узнав, начал жаловаться страшными, жалкими словами неверия, наступившего в старости.
— Меня назначено было узнать всей Европе, — говорил старик и слегка выпрямлял грудную клетку и плечи. — И я старался, но я не могу! Я всю жизнь старался, мне без малого семьдесят, больше я не смогу — и всего лишь полгорода!
Не могли изменить его истинной веры даже сильные нападки людей на него, которые догадывались об одной только сотой, но и сотая эта их уже возмущала, как ни странно — таких же мужчин, что и он, а особенно это возмущало женатых, как неверность собственной жене его Алле, которая втайне тоже им представлялась в виде сладкой малины, то есть эта неверность, но которой они не умели устроить — из-за слабости духа и веры в себя.
— Если женился, надо так и держать, — говорили они и старались держать.
— Надо взять себя в руки, — говорили они и, пыхтя, огорчаясь, все же, кажется, брали.
При этом, как водится, не бывало без сплетни.
Конечно, рассказывали про нашего человека, много рассказывали, говорили с захлебом — вот, мол, парень, подумайте только! востер; и с сомнением говорили, не зная, что лучше, можно ли это, не зная, вообще; честные говорили, осуждая за ложь, а если в согласии между двумя, то и пусть — то есть с одобрения жены его Аллы, в каковом, разумеется, сомневались, что есть; в ухарском между мужчин разговоре часто рассказывали как отличный пример, а то и присваивали на себя его случай — правда, может, чтоб ярче и сильней был рассказ, который от длинных расстояний тускнеет; или хвастаясь честно, что лично знаком, чем кидая, однако, немалый и отсвет — в сторону себя, в свою мужскую сторону, которая несколько нуждалась в дополнительном освещении; одним даже простеньким рассказом без обычного осуждения поднимали себя в своих несильных глазах; напротив, хвастали своим осуждением, не имея в себе его, сколько хотелось, сколько, по их представлениям, от них ожидали, тогда как, возможно, и не ждали от них; осуждали его, опасаясь примера, за своих, за домашних, опасаясь людей: неровен даже час, что уже не пример, что реально сделает именно он, сделает это с одною из них, одной из домашних при нечаянной встрече — с дочерью или, не дай Бог, с женой (они слабы, наши жены, как мы сами слабы), может, также с сестрой, хотя с сестрой все же лучше, наши сестры касаемы меньше до нас, может, ей даже нравится, дело ее, связи наши с сестрой стали нынче бледнее; опасаясь также дружбы с ним или силы рассказов для своих, для собственных, для домашних мужей, которым сами потрафляют не слишком, которые могут узнать вдруг такое, чего им в домах не являлось никак — при этом часто не являлось нарочно, тогда как могло бы явиться и им, но для поддержания тихих представлений о доме, с моралью на уровне радиопьес, являлось их женами втайне не тут, то есть не с ними, тихими, являлось, а с теми, кто может, с такими же, собственно, как и наш человек, — а мужей полагается от того охранять; со злобой рассказывалось тем, кто не делал успехов, то есть со злобой бедного к тому, кто богат, хотя бы богатство приобрел себе сам, и любой ему может последовать в том, но, однако, не хочет, страшится богатства, опасаясь при этом утерять что-то прежнее, что заставит утеривать это богатство; с яростью рассказывалось многими, во всей душевной узости нежелания видеть иных, чем он сам, кто не лепит себя, как с иконы, с него, кто, вернее, не лепит с одного пьедестала; пуще ярости, полные хорошего гнева были рассказы людей другой веры, искренней веры в то, что надо не так — и слава этим людям, пусть живут в своей жизни, как себе представляют, пусть утверждают свою иную веру, только не нашлось бы других, недобросовестных, многих, которые могут использовать это, как им надо сейчас.
Читать дальше
![Владимир Марамзин Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.] обложка книги](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-cover.webp)
![Владимир Марамзин - Блондин обеего цвета. Взаимная повесть. [Сюрреалистический рассказ]](/books/39549/vladimir-maramzin-blondin-obeego-cveta-vzaimnaya-p-thumb.webp)