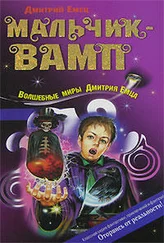Патруль прикладом стучит на крик,
Капли летят брызг дождевых,
Нагибаясь, псу говорит старик:
— Их двое, и мир для них.
Николай Тихонов
1
Дождь не истекал вторую ночь: придвигался и отходил, висел на паучьих турниках, рассыпался от убежищ за разогнанной в мае больницей, и в дому налилась гулкая, древесная глухота. Черная зелень, отяжелев, свесилась к нижнему этажу. За училищами в глубине улицы, как и прежде, изнывала невыясненная сигнализация: Глостер с чужих слов уверял его, что ни одна из команд, отправленных для разбирательств, не вернулась без потерь; греко-римлянин, конечно, смеялся над ним, но Никита не раздувал в себе лишней обиды. Глостеру никогда не везло, с кем бы он ни сближался, чего бы ни плел, и неточная почва уже оформлялась у него под ногами, сказали бы многие: большие дни и вечера, когда он, не скрывая сияния, присутствовал в первом ряду, прекратились давно, сохранившись лишь в дерганых записях на опустевшем канале, но и музыка стала другой, слава стала другой; отстающие же подвергали Никиту печали, и он начинал сторониться любых разговоров о них.
Он потянул окно, впуская шумящий воздух; комната поплыла за спиной под стенание сирены. Веревочный старик спал, держа ровно просвечивающую голову. Тощее одеяло он скомкал ногами; Никита разжал синеватые колени, достал и поправил зажеванное. Он был еще слаб от последней болезни, но ему не лежалось, не думалось; адмиральская мебель, захваченная на раскопах плехановцами, подавляла его по ночам, якобы неприятельский флот. Всё втащили к нему, пока длился их госпиталь-фест, предварительно умыкнув у него из гримерной ключи; возвратившись к полуночи после всех церемоний, он застал старика на бескрайней кровати с якорем в изголовье и пришлепнутым к рыму плехановским стикером. Для него же достали обитую синим и золотым софу легких кровей, неуместную для сна, длинный, как целый вагон, гардероб, книжный шкаф с наугад выбранными книгами и громоздкие кресла на страшных змеящихся лапах, которые Никита неделю спустя уступил детсовету, занимавшему слитый бассейн.
Стащив отсыревшую от бессонницы майку, он спиной положился вслепую на гардеробную дверь, стараясь остыть; повыше поясницы присосалась латунная накладка. В комнате вспыхнула молния, и Никита увидел себя синеватым, преломленным, ему захотелось одеться; здесь же с лестницы донесло неприязненные голоса поднимающихся смотрителей и согласное вяканье раскрепощенных перил. Он со всхлипом отлип от двери и прильнул к прихожей, предуготовляясь к ночным новостям; как всегда, он метался, как лучше предстать им: концертное платье, как Никита много раз это видел, ввергало их звенья в болезненный ступор; в то же время гражданский хло́пок , брошенный в эвакуацию и разошедшийся в городе без всякой привязки к заслугам, упрощал разговор, но усыплял в приходящих готовность вдаваться в подробности, что было тоже невыгодно. Все-таки он укрылся хлопчатой болотной футболкой с не читаемым в темноте отпечатком и увереннее подвязал беговые штаны; руки его повисли, и музыки в них было немного. Они протоптались снаружи еще минуту, прежде чем позвонить; Никита успел обмякнуть в локтях и коленях, угадав их смятение. Смотрители привели землистого ординарца с алголевской меткой на плече и болтающейся нижней губой; выяснялось, его приглашали на острова: лето было еще высоко, ночи взыскующи; под завесой сплошной воды лучшие из неспящих соревновались в неуравновешенной стрельбе, бранясь с секундантами после каждой промашки. Он не слишком любил эти выезды, но, преследуемый сиреной, был рад избавлению; пока посыльный договаривал, он достал с вешалки островные одежды и скрылся в спальне, не тратя лишних слов.
Во дворе, перемалываемом дождем, Никита убрал голову в капюшон, как заложник; до ближней пристани вела пешая колея, огибавшая больничный двор с раскисшей гуманитарной фанерой, футбольное место и котельный городок, лишь недавно раскрашенный. И большая сегодня возня, спросил он у провожатого, когда смотрители отстали от них; ординарец взглянул помутненно, но быстро нашелся и рассказал, что еще неизвестно, куда все идет, поскольку с Трисмегистом на острова пришел катер с немаркированным грузом, о котором можно только гадать. Прибыл ли Лютер, спросил еще Никита, сам того не желая; Лютер два дня как болен, объявил ординарец, находится дома в жару, вчера приставили доктора.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу