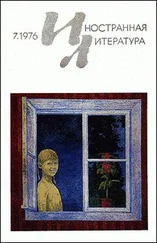Ее отец стоял к ней спиной, механически перетирая стаканы.
— О’кей, — сказал Арнольд, — но нам известно еще и второе — в нас живет инстинкт агрессии, и это тоже из-за детей. — Он направил в меня палец, словно пистолет. — Бороться умеет любое животное — утка, волк, медведь, — но у людей с этим все обстоит гораздо сложнее. Об этом вы когда-нибудь думали? А причина — опять же дети, вот что я обнаружил. В обычной схватке животных один из самцов рано или поздно отступает (только не лошади, лошади — психи). Но человеческие детеныши — дело другое. Человек защищает свое гнездо, пока его дети не смогут ходить, говорить, не научатся разводить огонь, охотиться, готовить пищу. На это уходят годы. Десять лет, двенадцать? Причем мало просто изгнать врага всякий раз, когда он является. Нужно очистить от врагов свой лес, обезопасить себя. Выживает тот ребенок, чьи родители окажутся наиболее злыми, самыми безжалостными. — Он посмотрел на Ленни Тень, который открыл было рот, чтобы что-то сказать. — Ты подумай, малыш, — опередил его Арнольд. — Посоветуйся с пастором.
Незаслуженно обиженный, Ленни удивленно поднял брови и, разведя руками, посмотрел на меня. «Где же справедливость?»— говорил его взгляд. Справедливости не было.
Арнольд одержимо врубался в скалу. Он вновь навалился на стол, его лицо блестело от пота, он в упор уставился на меня, словно забыл, что остальные здесь тоже.
— Но вот тут-то, — сказал он, — начинаются трудности, сейчас вы это увидите! Родители любят свое дитя и, конечно, любят друг друга, иначе они не стали бы жить вместе и опекать свое дитя, и довольно скоро они приучаются любить и своих родных, и соседей, так как это тоже помогает им выжить; проходит век за веком, и люди приучаются любить родных и чтить покойных родственников, и каких только мудрых мыслей не оставляют они потомству, нацарапав их на камнях и кусочках дерева. Вот это сговор! Семья и ее соседи, живые и мертвые, все стоят на защите бедного, беспомощного ребенка! Но все они ненавидят — я повторяю: ненавидят! — врага, «чужого». — Он метнул острый взгляд на Джо, который все еще стоял за стойкой бара, — Анджелина тоже не него посмотрела, — но Джо, казалось, не заметил ни того, ни другого.
— И все идет хорошо, — сказал Арнольд — до тех пор, пока люди держатся тесными маленькими группками. Но что происходит тогда, когда вдруг поселяются вместе, в одном городе, ирландцы и итальянцы? Англичане, валлийцы, немцы, евреи, китайцы, чернокожие? В таком случае нам приходится раздвинуть горизонты и придержать наши инстинкты. — Он опустил голову и ткнул пальцем мне прямо в нос. — Мы изобретаем цивилизацию и суды и придумываем, как заставить человека любить чужих покойных родственников, тех, которые дурно отзывались о наших покойных родственниках. И тут уже работают наши мозги — понимаете? Тут любовь — уже политика, а не просто инстинкт. Вот в чем — Искусство жить. Это не просто инстинкт; это то, что делаешь с определенной целью. Это искусство!
Он почти кричал.
Может быть, вам сейчас хотя бы отчасти понятно, что там у нас происходило, но тогда я ничего не понимал. Сердце у меня колотилось, кровь прилила к лицу, хотя мне и удалось сохранить видимость холодной улыбки. И все же я не думал, что повар в буквальном смысле сошел с ума, я был уверен, что он не пьян, но мне непонятно было, зачем он кричит на меня, пытается сделать из меня дурака. Даже чепуха, которую городил Тони Петрилло, казалось, имела больше смысла.
— Ты во всем разобрался и оставь это при себе, Арнольд, — сказал я тихим голосом, улыбаясь, как будто бы это был вовсе и не я, а лишь мое изображение, посланное с космического корабля. Я почувствовал, что Анджелина на меня смотрит, и обернулся, но она смотрела уже чуть в сторону. По-моему, она покраснела тоже.
Наконец до Арнольда дошло, что никто его не понимает, разве что Джо за своей стойкой. Откинувшись на спинку стула, Арнольд неожиданно рассмеялся.
— Наш повар свихнулся, а?
— Эй, послушай, — начал было Ленни Тень, но тут же забыл, что хотел сказать, словно проглотил свою мысль.
А повар продолжал:
— И еще я вам доложу — Искусство там, где все стекается вместе, вот к чему я веду. Возьмите хорошее китайское блюдо, вещь очень специфическая. — Он бросил быстрый нервный взгляд в сторону Джо и Анджелины, вращая глазами, как герои стародавних фильмов Эйзенштейна. — Мой мальчик Райнхарт там, во Вьетнаме…
Мы все разом уставились на стол. Это было хуже всего — когда он начинал говорить о своем погибшем сыне так, словно все было в порядке. Он выдавливал из себя фальшивую улыбку, задирал вверх брови — он, возможно, и сам не сознавал этого, — губы у него дрожали, голос садился, а глаза наполнялись слезами. Казалось, это должно было вызывать в нас сострадание к нему, но боюсь, что на самом деле мы скорее испытывали неловкость и чувствовали себя жалкими подонками. И если бы такие разговоры повторялись чаще, мы, пожалуй, перестали бы к нему ходить.
Читать дальше