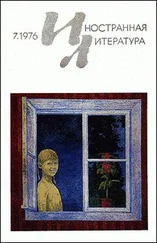«Если я и вправду намерен это сделать, — размышлял он, — то надо приниматься за работу». Но дни шли за днями, к работе он не приступал и только сидел, раскачиваясь на табурете и вздыхая, без конца взвешивая доводы «за» и «против». Он вспомнил про портрет кабатчицы и про то, как этот портрет изменил ее жизнь. Но, с другой стороны, вспомнил он и случай с пчелой, когда он, желая уберечь Королеву, причинил ей только вред. Как ни досадно ему было слушать рассуждения монаха, он не мог не видеть в них правды: много ли проку от любви к материальному миру — ко всем этим цветникам и королевам, к кабатчицам и несчастным маньякам? Что с ними будет через тысячу лет? Запечатлеть их облик для грядущих поколений — это одно, но впадать из-за них в отчаяние… «Нет, нет! — восклицал Влемк. — Абсурд!» Да и с чувствами говорящей шкатулки надо посчитаться. Имеет ли он право лишать свое творение способности говорить? Разве не все живое священно? Разве истинное произведение искусства не важнее его создателя? И разве не правда, что произведение искусства, как только оно закончено (если не раньше), перестает принадлежать отдельному человеку, то есть принадлежит уже всему человечеству? Влемку теперь нелегко стало смотреть говорящей картине в глаза. Он видел, что та наблюдает за ним, точно ястреб, с тревогой и подозрением. «Как это странно, — подумал он. — Самый благородный, самый бескорыстный поступок в моей жизни может оказаться, если взглянуть на него с другой стороны, отвратительным и бесчеловечным!» Влемк сжал кулаки. Разумеется, он должен был это предвидеть, еще когда картина только открыла рот. Она — противоестественное существо, она — от лукавого! В самом деле, разве не она околдовала его? Не она ли ни за что не желает исправить свою подлую несправедливость? И все болтает и болтает, не давая ему сделать и знака рукой? Ну что ж, настал конец ее подлости, думал Влемк, злобно усмехаясь.
Но не успевал он принять это разумное решение, как картина снова заговаривала, очаровывая его своей кажущейся детской наивностью и заставляя мучиться угрызениями совести. Ужас был в том, что он всем сердцем любил эту дерзкую неисправимую картинку и, следовательно, и самое Королеву, поскольку они друг от друга не отличались; но об этом он не хотел и думать. Вопреки здравому смыслу и несмотря на то, что она упорно отказывалась снять с него проклятие, он скорее бы умер, чем изменил бы на ее загадочном лице хотя бы один штрих.
— О чем ты задумался, Влемк? — спрашивала картина, пряча за улыбкой страх.
Влемк виновато пожимал плечами, ловя себя на одной и той же постыдной мысли: если правильно повести дело, то можно будет, поскольку она радуется возвращению домой, уговорить ее снять с него проклятие, а уж потом, возможно, переписать ее. Но, вспомнив, что это было бы предательством, он моментально мрачнел, становился раздражительным и несносным, и тогда картина принимала обиженный вид, начинала капризничать и наконец замолкала. Дни шли за днями, а он был так же далек от окончательного решения, как и вначале.
Однажды вечером, когда Влемк был особенно недоволен собой, он вдруг решительно встал, надел шляпу, пальто и отправился в кабак. Завсегдатаи, по обыкновению, были уже на месте, кабатчица ходила веселая, хвасталась обручальным кольцом — скоро она выходит замуж. Будущий убийца, бывший поэт и бывший музыкант сидели в своем обычном углу и, точно хорьки, попавшие в курятник, бросали на всех плотоядные взгляды. Влемк-живописец постоял немного в раздумье, сунув за подтяжки большие пальцы, потом подошел к ним. Сев за столик, он жестом подозвал кабатчицу:
«Вина, моя дорогая, лучшего вина, какое здесь только есть! И платить буду сам, потому что шкатулки мои пошли в ход. Довольно уж мне пользоваться твоими подаяниями. — Убедившись в том, что она все поняла, и отвергнув ее возражения (она заявила, что денег с него не возьмет, потому что сама у него в долгу), он добавил — И моим старым друзьям — тоже лучшего вина».
Кабатчица сказала:
— Но у них и так уже лучшее наше вино, столько вина, что всего им не выпить. Да и не заслужили они столько, ей-богу. Смотри!
Влемк повернул голову: и в самом деле, перед каждым из них стояла бутыль дорогого вина, еще и наполовину не-выпитая. «Ну-ну», — подумал он и заказал вино только для себя. Когда он жестами спросил друзей, откуда взялось такое богатство, те долго переглядывались, язвительно усмехаясь и дрожа, точно листья на сильном ветру, потом поэт сказал:
Читать дальше