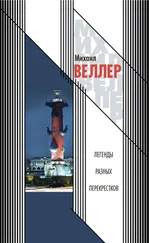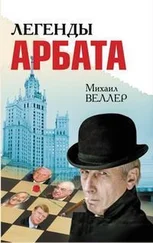Один мой знакомый сказал гораздо проще:
— Надорвался.
Я часто вспоминаю рассказ Джека Лондона «Отступник». Про мальчика из бедной семьи, тяжко и старательно трудившегося на заводе с раннего детства, кормилец братьев-сестер и опора матери. В шестнадцать лет, изнуренный и изуродованный трудом, потеряв все чувства от отупляющей усталости, он ушел в бродяги. Он мечтал о сказочном счастье ничего не делать и отдыхать сколько хочешь. «Поезд тронулся. Джонни лежал в темноте и улыбался».
Он уже не имел сил и напора продолжать и закончить роман. И любые попытки помочь, пристроить, издать отметал с большим раздражением, разговоры эти были ему неприятны. Обреченно возражая, что все равно ничего не будет, что никому ничего не нужно, что пустые это все разговоры, и он просит их прекратить, зря не травить ему душу.
…Так прошло двадцать пять лет. За эти четверть века он выпустил брошюру о Балтийском подплаве, статью об организации Октябрьского переворота царскими генералами и два очень тонких сборника стихов.
Он хлопотал о пенсии, у него не было компьютера, не было приличной одежды, он категорически отвергал любую помощь, подолгу не выходил из дома, не хотел видеть даже друзей по кадетке.
Он умер в шестьдесят семь неполных лет. Время спустя был найден в пустой квартире. И похоронен на Серафимовском кладбище.
Я помню, как он свистит под моим окном во дворе на улице Желябова и поднимается по лестнице — в отутюженных бежевых брюках, снежно-белой гипюровой рубашке, в темных очках, с бутылкой в редакторском портфеле. Как мы курим на скамейке в Летнем саду и знакомимся с девчонками. Как в четвертом часу ночи, допив энную бутылку, он извлекает из парфюмерного набора жены модный одеколон сезона «Горная лаванда», я разливаю его в две чашки, сую в свою палец и душусь, и этот мерзавец сует свой палец в мою же чашку, и мы ржем и допиваем этот дижестив. У нас была хорошая совместимость — никогда не пьянели, если пили вместе.
Как он шлепает на стол «Молодой Ленинград» и гордо предъявляет сто девяносто рублей гонорара. Как приезжает к нему в гости из Краснодара сослуживец Ваня, здоровенный бугай, и уважительно говорит: «Алька у нас на шлюпке левым загребным был», — чего я раньше и не знал.
И беломор, и коричневое пальто с меховым воротником, и как 9 Мая мы встаем и он говорит: ну, за наших отцов.
О времени, месте и поколении
В молодости видишь только детали, а с возрастом они все больше собираются в пазл. Жизнь он называется. Или даже история.
Мы оба с ним принадлежали к поколению, о котором я тридцать лет назад, на излете Советского Союза, написал «Дети победителей». Мы оба вошли в жизнь в начале семидесятых — как мордой в дверь.
В Ленинграде была своя литературно-андеграундная тусовка, из которой помнят сейчас Наймана, Рейна, Довлатова, Лену Шварц. Юру Гальперина забыли, Витю Кривулина помнит только литературный круг, Монастырский был человек специфический, Боря Дышленко исчез с горизонтов. Ну, Сайгон — это отдельная летопись.
Вот всех групп и Алька, и я чуждались. Не то главное, что из всей культуры там воспринимался исключительно Серебряный век и гонимые советской властью. Групповой код-ограничитель. Но было там нечто морально ущербное. Там (имманентно, сказал бы я в философическом анализе) присутствовала некая непомытость, непостиранность, неопрятность, некрасивость в пьянке и убранстве, впечатанная второсортность в дружбе и сексе. Там не могло быть подвигов во имя любви красавицы, и красавицы быть не могло, и заступиться в мужской драке там тоже быть не могло. Там бездарно спивались, бездарно трахались, и говорили друг другу, что они гении. Неинтересно. Не ярко. Без куража. Не было этого: «С весельем и отвагой!»
Мы оба полагали: хочешь писать — пиши. А когда печататься настолько трудно, а в литературе уже было столько гениев — писать имеет смысл только предельно хорошо, на грани, на износ, любой ценой. А богемная неопрятность и бессмысленная атрибутика — это для комплексующих неполноценностью. Достоинство профессионала — отсутствие внешних указателей. На понтах только дешевка. Будь обычен с виду.
И никогда не ной! Не жалуйся ни по какому поводу. Никто не смеет тебе сочувствовать. Никто, никогда, ни в каких условиях не может сделать тебя несчастным. Не озлобит, не сломает, не сделает жалким.
Ты нищ? Но на людях должен распространять небрежное благополучие. Тебя прижало? Всем должно быть видно — все тебе по фигу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу