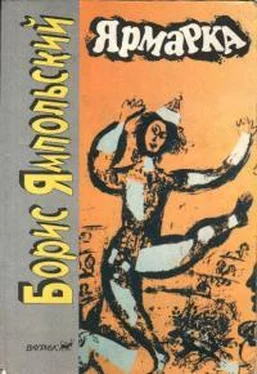В один из первых мартовских дней 1953 года, в ранний оттепельный вечер, когда солнце еще окрашивало соборный шпиль высотного здания Министерства иностранных дел, на Арбате, у диетического магазина, гражданин в старой черной шляпе и пенсне, прислонившись к стене дома, кричал:
— Я человек! Че-ло-век! Поймите!
И непонятно было, пьяный он или больной.
Люди останавливались, смотрели, поспешно отходили.
Регулировщик, сидевший на углу в своем голубом стакане, некоторое время прислушиваясь, посматривал в его сторону, потом высунулся в окошко, призывно свистнул куда-то в сторону Смоленской, оттуда с угла откликнулись, и с другой стороны тоже засвистели.
— Ах, как мне надоели эти крестьяне со свистками, — устало сказал человек и притих. В это время прибежал неизвестный в бобриковом пальто и ботах.
— В чем дело, гражданин, почему нарушаете?
— Я не нарушаю, — тихо сказал человек.
— Пройдемте, гражданин.
— Куда?
— Куда надо, туда и пройдемте, — и он взял его за рукав.
— Пустите меня! — закричал тот, прижимаясь к стене. — Я интеллигентный русский человек.
— Там разберемся, — сказал неизвестный и крепко перехватил его руку.
— Я устал. Я уста-а-ал! — завизжал человек. — Я ничего не сделал. За что? За что?
И мне вдруг тоже захотелось взреветь вместе с ним в тот весенний вечер, в тот последний, казалось, уже невыносимый март.
Я жил в узкой и темной, вырезанной из коридора, комнатушке, доставшейся мне по ходатайству партизанского штаба после того, как прошел от Днепра к Волге и назад к Днепру, и за Вислу...
Это была некогда большая, занимавшая весь бельэтаж барская квартира с высокими, отделанными темным дубом залами, с зимним садом, бассейном и китайской курительной комнатой, с многочисленными службами и комнатами для прислуги, для швейцара, для буфетчика, для повара и поварихи и поваренка, для собак, для кошек... И теперь эти залы и комнаты были поделены, разделены, разрезаны на клетушки, и большие во всю стену сияющие барские окна тоже были поделены между этими клетушками, и назывались теперь световой площадью, и давали по мере своих световых сил солнце жильцам этих клетушек, в том числе и мне.
Вместе с площадью, естественно, был поделен и потолок с изображенными на нем летающими на розовых крылышках амурами, и часто бывало, амур прописан был в одной комнате, многосемейной и крикливой, а пущенная им из лука стрела проживала совсем в другой, такой же многосемейной и шумной, и, несмотря на то, что это были стрелы амура, стрелы любви и внезапного счастья, усталые люди, озлобленные коммунальным бытом, все время чувствовали их совсем не в сердце, а где-то в печенке и в селезенке, и были лютыми врагами, и ничего не хотели друг другу прощать.
Квартира была двусторонняя и выходила на лестничную площадку парадным и черным ходом. И так все было построено или специально барином задумано, что в одной половине — черной — оказалась кухня, а в другой половине — парадной — ванная и туалетная, или, как нынче говорят, санузел.
И теперь обе половины, как и полагается половинам, воевали между собой, как, впрочем, были войны и внутри половинок, как и внутри комнат, это была сплошная война из-за тесноты, неудобства, очередей к умывальнику, к телефону, к конфорке, споров из-за места на кухне, счетов на газ, на электричество. И из-за шума, вечного чада, подглядывания, подслушивания, этой таборной жизни на миру, даже спокойные, добрые, уравновешенные люди становились злыми, подозрительными и хотели насолить друг другу.
Мелкая война шла, неутихающая, упорная, коварная, изматывающая, и иногда, очевидно, когда уж очень накапливалось, из-за какой-то мелочи, как от вспыхнувшей спички, когда возвращались с работы, из очередей, с собраний по борьбе с космополитизмом усталые и нервные, разгоралась Большая война. Начинали ее обычно женщины. «Я прекрасно осведомлена — у вас тайная плитка!» — «А у вас тайный муж!» Потом вступали старики пенсионеры: «Кого хотите обмишурить, ведь вы были ликвидатором!» — «Я был ликвидатором? Вы, махаевец!» И наконец из комнат появлялись тяжелой, солидной, дальнобойной артиллерией главного резерва мужчины в подтяжках, с трубками, с громкими, себя уважающими, себя не дающими в обиду голосами: «Я из принципа не допущу оскорблений моей жены!» — «А я на самом высоком уровне протестую против ваших диверсий!» И лишь подростки не участвовали в споре, а только наблюдали: «Ой, кино!» И кончалось это, когда все уставали, к полуночи, полным разрывом дипломатических отношений парадной и черной половин, которые наглухо закрывались на ключи, на цепочки, и на лестничной площадке оставались запоздалые коты той и этой половины, истерически мяукавшие всю ночь, и считалось, что теперь черной половине напрочь, навечно закрыт доступ в санузел, а парадной — в кухню. «Вот теперь-то они запоют, — говорили люди на парадной половине, — походят, как трубочисты». А на черной говорили: «Попляшут на пустой желудок». И обе половины засыпали в полном удовлетворении своих мстительных страстей.
Читать дальше