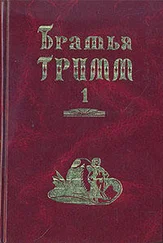Этой женщине Митрофан дал зачем-то странное имя — Мончичи. Когда Иван отсутствовал, Митрофан громко говорил с Мончичи в своей комнате, рассказывал ей о проделках пассажиров в его автобусе, жаловался ей на погоду, на механиков, на начальство, желал ей спокойной ночи…
Изредка Митрофан пытался разобраться в себе, понять, что же он все-таки сам за существо. Напрягал память, пытался что-то хорошее вспомнить, о чем-нибудь важном подумать, что-то сам для себя решить, но ничего на ум не приходило, кроме Мончичи. В голове у Митрофана было какое-то зудящее марево. В ушах часто звенело и стрекотало. Тысячи потусторонних кузнечиков покрывали своим стрекотом его жизнь, как снег — московские улицы…
Соседями Ивана и Митрофана по квартире были три толстых казаха — Бактыбай, Бактыгерей и Балабек, тоже шоферы, и живущий один в крохотной комнатке ловкий старичок Урмантай Урмантаев, слесарь. Иван и Митрофан звали его дядя Урма, относились к нему «без эмоциев», иногда приглашали его третьим.
Казахи с соседями не общались. Жили какой-то своей жизнью. Пели вместе что-то заунывное по вечерам. Младший, двадцатипятилетний Балабек заходил иногда к русским соседям и спрашивал: Иван-Митрофан, бутылка есть?
Иван отвечал ему лениво: Нет водки. Ты, эта… Без эмоциев! Сходи на перекресток с Голубинской, там у таксиста всегда купить можно. Пятерик дай, хватит с них, а то они всегда червонец просят. И нам нальешь за совет по чекушке. Шутю, шутю…
Когда Балабек уходил, Иван замечал горько: Нацмен — он и есть нацмен. Чурка глупая! Шуток не понимает! Целина! Не может водки купить! А баранку вишь крутит, как ты да я. Заебись, вока! Что ты думаешь, Митро?
Митрофан тянул: Да ушшш… Чуркодааавы…
Дядя Урма говорил о себе так: Я православный татарин, волжский булгар, кряшен-кераит. крещеный значит, мой род от Золотой Орда, мой предок — святой Авраам, который колодец рыл. С живая вода. Его убил Чингисхан. У меня в Буинске жена Агдалия… Хочешь перекрещусь? Икону видишь в углу? Казанская… Чудеса делает. Из запоя выводит. Что? Почему Сталин рядом с иконой? Потому что при нем был порядок! Он любил простой человек. Церковь у нас открыл.
О том, что пришлось ему таки при Сталине отсидеть семнадцать с половиной лет по пятьдесят восьмой статье, дядя Урма никогда никому не рассказывал, стыдился. Когда его, девятнадцатилетнего паренька из предместья Казани, арестовали и посадили, он по-русски и говорить не умел. Ему шили политическую статью, а он думал, что его преследуют за то, что на работе инструменты крал на обмен и продажу. Он так всем и говорил в лагере: за плоскогубца пострадал, значит…
А на самом деле его осудили по статье 58-9 за «причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения…. в контрреволюционных целях». На фабрике трубу прорвало с горячей водой. Оборудование новое залило, обварило рабочих. Чинил трубу Урмантай, за это его и посадили. Вместе со всей бригадой. И хотя по статье 58-9 наказание такое же. как и по страшной статье 58-2 (вооруженное восстание), Урмантая не расстреляли, а дали «десятку». А потом, как и другим, от доброты советской души, «добавили». Вышел из лагеря он только в пятьдесят четвертом. Выжил дядя Урма в лагере, потому что по счастливой случайности угодил в придурки, прислуживал начальнику лагеря, подполковнику-татарину, говорил с ним по-татарски, убирался, стирал и гладил его одежду, подворовывал, жировал, а потом, когда и подполковника арестовали, не колеблясь подписал показания, которые подсунули ему следаки. Если бы он умел читать по-русски, то наверно ужаснулся бы тому, что подписал — подполковник его обвинялся в том, что собирался передать автономную Татарскую Советскую Социалистическую Республику, вместе с рекой Волгой, со всем населением и полезными ископаемыми — нефтью, углем и доломитами — то ли Римскому Папе, то ли японскому императору, но дядя Урма читать не умел, сам по подполковничьему делу осужден не был и остался в придурках. Любопытно, что по своей прямой специальности — слесаря-сантехника — он не проработал в сталинском лагере ни одного дня.
По выходе из лагеря Урмантай устроился на молочной комбинат в городе Набережные Челны, связался там с православными татарами — кряшенами, ходил в церковь, даже причащался и каялся, но икону свою, Богоматерь Казанскую, умудрился таки в церкви прямо со стены украсть. За несколько лет до выхода на пенсию перебрался за взятку в Москву, работал слесарем в большом гараже, осторожно подворовывал и там… Надеялся, что заживет в столице как король. Но быстро разочаровался. Хотел было вернуться в Набережные Челны, но так и не поднялся.
Читать дальше
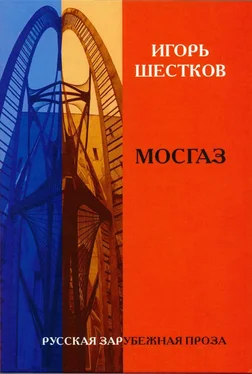
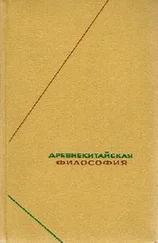


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)