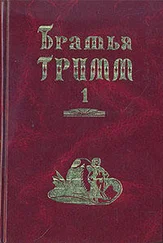Иду я по дороге в лесу. Иду, иду, дрожу. Вспоминаю мучительно, где же я живу, но вспомнить не могу. Мозги трещат. Куда идти? Кто я такой? Забыл! Все забыл, ничего не знаю.
Ездили мы капусту убирать. На автобусе. В можайский район. Далеко. Весь день катались. На поле часа четыре корячились. Снежком сеяло прилично. Кочаны тяжелые, скользкие. Сочная капустка уродилась. На зубах хрустит, белым соком прыскает. Наши бабы их и поднять не могли. Двадцать килограмм кочан! Намерзлись. В туалет не сходишь. Полю ни конца ни края. У меня кости разболелись. Хоть падай. В теплом автобусе жизнь раем показалась. Начали тут все курить. А я не курящий. В задох пошло. Окна открыли. Толян спирт достал. Спирт есть, капуста есть, стаканы есть и белый хлеб. Все остальное еще на поле срубали. А воды нет, спирт разбавить. У Привыкина литр молока был с собой. Налили мы молоко в трехлитровую банку и туда же литр спирта. Ну и гадня получилась — белесая, грязная. Комья вроде творога в ней плавают. Как ее пить? Белый хлеб в это пойло макали и ели. И я попробовал. На втором куске проняло. Закусывали капусткой. Ядохимикат!
Где-то у Можая Сидорова песню затянула. А за ней и другие бабы. Зачем вы девушки красивых любите… Непостоянная у них любовь… А у Зои Ситыч с Перепелкиным сшиблись. Я к тому времени уже лыка не вязал. Мне сон снился про уральские горы. Будто я там камень нашел большой. Желтый, прозрачный. Проснулся я, а камня нет. Захрипел с досады. Сломал Перепелкин Ситычу передний зуб. Ситыч после фиксу показывал.
Мозги сегодня весь день одна мыслишка сверлила. Может испытать? Участкового продырявить или Димыча. Освобожу мир от этой жопоморды. Придет он ко мне в мастерскую, скворцом зачирикает. О том, о сем. А я ему так отвечу — заткнись, жид жирный. У русского человека от одного твоего вида харкотина в глотку бежит. Так тебе в рожу плюнуть хочется. Он обомлеет. Обидится. На толстых его губках обида затрясется. А я железной рукой свой самопал из кармана вьітаїцу и ему в его жидовский глаз и пальну.
Или, придет ко мне Ситыч. Начнет приставать. Заглядывать застенчиво. Обласкивать, обскакивать как козел. Скажу я ему — ладно Ситыч, согласный я, снимай штаны, смазывай очко. Выдрючю наперед тебя. А после и сам жопу подставлю. Обрадуется он, сраку откроет, а я ему туда семь свинцовых миллиметров захуярю. Чтобы через все тело пуля прошла и в языке его бескостном застряла.
Или Верку найти и постращать ее, подлюгу?
Вера, Верочка, где ты, моя голубка? Тошно мне без тебя. Пропаду.
Было мне сегодня видение. Открыл я утром глаза. А на стуле у моего стола баба Акулина сидит. Фотографии разглядывает. Из баночки леденцы таскает. Вместо того, чтобы сосать, грызет их как семечки. Посмотрела на меня и сказал: Кончай представление, внучек. Прыгай!
А я как будто опять на той трапеции стою. Ну в цирке.
Вдохнул я и прыгнул вниз головой. И вот, лежу я в ручейке. Омывает меня прохладная водичка. Кровь от меня полосочкой змеится. Сказочные деревья склонились надо мной — веточками колышут золотыми, листиками серебряными шуршат. Смотрю я на деревья сквозь мертвые глаза и радуюсь. И вижу в лучах хрустальных птицу Алконост. Спускается ко мне чудесная птица и обнимает меня нежными руками и стеклянными крыльями. Кладет головку свою мне на грудь…
Мама поучала меня: Ничего никому не обещай. И вообще, засунь язык в задницу!
Я всю жизнь нарушал эти мудрые правила. Меня ловили на слове, позорили. Вот и сейчас — черт меня дернул обещать Б-ву, что напишу про фильм и презентацию книги о Литвиненко на проходящем в Берлине «Международном Литературном Фестивале». И не просил он меня об этом, сам напросился… А теперь, не знаю, что писать, как писать. Книгу я не читал, только авторов видел. Никакой информации, одни эмоции. Распласталась белая страница на мониторе, как простыня. И нет на ней даже пятнышка, зацепочки, чтобы прицепиться и буковками простынку прострочить.
Тишина. Только комп вентиляторами шуршит. Работает. Он работает, вентиляторами шуршит, а я… А мы… Мы живем еще. Дышим. А Литвиненко — мертвый. И Политковская. И Щекочихин. И Старовойтова. И многие, многие другие. Все. кто хотел правду сказать. О путинской педофилии, о взрывах в Москве и рязанских учениях, о наворованных чекистами миллиардах, о Чечне, Курске, Нордосте и Беслане.
Началось это с подлого убийства отца Александра Меня в сентябре 90-го. Что-то в этом преступлении было особенное. Послышалась в нем загадочная нота нового времени. Фальшивая нота… Даже не нота, а скрип, хруст. Россия расчерчивала костями подданных новый круг смерти. Решил тогда — пора, пора сматывать. Не хочу больше вариться в этом протухшем бульоне. Не хочу быть палачом, предателем или узником. Стану лучше немцем.
Читать дальше
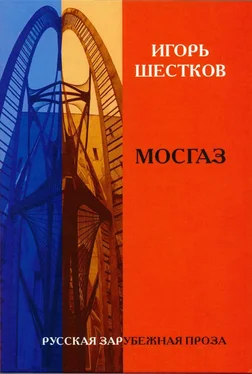
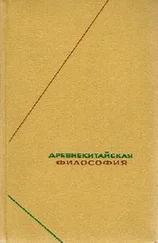


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)