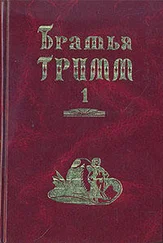Они жили вместе почти шестьдесят лет. Растили детей, работали, любили, отдыхали.
Потом умерли. Вначале старушка, потом — старик.
После смерти они очнулись, как после тяжкого сна. в океане. На надувных матрасах.
Океан был спокоен, вокруг них тихо плескались крохотные ласковые волны. Солнце не жгло, ветра не было, сквозь прозрачную голубую водичку было хорошо видно покрытое разноцветными камешками дно. В воде не было ни рыб, ни медуз, в воздухе не было птиц, в небесах цвета желтого опала не было видно ни облачка.
Он увидел ее, она увидела его. И они улыбнулись друг другу беззубыми ртами.
А затем они легли на своих матрасах на свои старые, морщинистые животы и стали отчаянно быстро грести руками. Как бабочки или стрекозы, попавшие в воду. Они сбивали воду в пену и эта пена покрыла поверхность воды моря желтоватым ковром.
Они плыли в разные стороны. Через несколько минут они потеряли друг друга из виду.
Просторный классный зал. Столы.
За столами сидят люди.
Они молча пишут что-то в серых тетрадях. Тишина нарушается только монотонным голосом учительницы, скрипением стульев, кряхтеньем, вздохами.
Я тоже сижу за столом. Передо мной лежит тетрадь и синяя шариковая ручка с обгрызенным концом. Кто его обгрыз?
Почему мне страшно?
Во сне думать трудно.
Я не знаю, кто я.
Не знаю, мужчина я или женщина, мальчик или старуха. Гляжу во сне на свою руку. Рука как рука, без свойств, без возраста. Как будто и не моя.
В классе высокий потолок. Слева и справа просторный белый коридор. С небольшими белыми дверями. Больница?
Учительницу не видно. Между мной и ней стоят казенные шкафы. Огромные, почти до потолка, из массивного дерева. Что в них? Какие-то старые папки. Истории болезни?
Я вслушиваюсь, пытаюсь понять, что говорит учительница.
Не понимаю ни слова.
Это не человеческая речь, а мышиный писк, сопенье…
Что же пишут в тетрадках мои соседи?
Спросить что ли кого?
Рискованно. А вдруг он или она встанет, покажет на меня пальцем и громко завизжит? Тогда все поймут, что я — чужак. И набросятся скопом.
Решаюсь потревожить тучную женщину в лиловом платье. сидящую на парте передо мной. Осторожно дотрагиваюсь указательным пальцем до ее плеча.
— Извините, что вы пишете?
Женщина поворачивается ко мне.
О, Боже! Это не одна женщина, а две. Сиамские близнецы, сросшиеся лицами, похожими на лицо несчастной Фриды Кало. Три глаза и два рта. Они возмущены моей дерзостью. Они грозно хмурят густые сросшиеся черные брови, их напомаженные губы дергаются в припадке справедливого гнева.
Близнецы пытаются говорить. Но выдавливают из себя только шипение и хрип.
Они отворачиваются и принимаются писать дальше. Одной правой рукой. Остальные руки — маленькие, уродливые — висят как плети поверх платья, в которое всунуты два пухлых сросшихся тела.
Обращаюсь к сидящему справа от меня мужчине, похожему на небольшую ворону.
— Простите, что вы пишете?
Он поднимает голову и с ужасом смотрит на меня.
В его больших воспаленных глазах смятение. Он бормочет:
— Оставьте меня в покое! Кар-кар… Я записываю слова учительницы. Не мучайте меня! Я готов на все. Возьму любую работу. Могу полизать у вас под мышками после уроков, только не мешайте мне писать. У меня слабая память, не могу ничего запомнить. Я должен аккуратно записать все, что скажет мадам Лили. А вечером я постараюсь выучить записанное наизусть. Буду долдонить всю ночь. Что-нибудь, да останется! Да, да, вы смеётесь. Вы хотите помешать мне, а потом, когда я срежусь, вы будете торжествовать. Стыдитесь. Пишите. Пишите, как все! Кар-кар-кар…
Четырнадцатилетний сын моих венских знакомых Лютц рассказал, что по их школе ходят видеокассеты с фильмами, нелегально отснятыми во времена фашизма в концентрационных лагерях. Любители садизма снимали стоящих в газовых камерах голых женщин и детей до пуска газа и после. Через стеклянные окошки в дверях.
Я спросил Лютца:
— Ты видел сам?
— Да. да…
— Тебе не было страшно?
— Нет, меня же никто не трогал.
— Тебе было их жалко?
— Нет.
— Ты онанировал, когда смотрел?
Лютц вначале не отвечал, но когда я заверил его. что ничего не скажу его родителям, выдавил из себя:
— Да. Да. Это было здорово и быстро. Я кончал, когда они все там обсирались…
Тетя Оттилия боготворила роскошный трехстворчатый книжный шкаф ручной работы, купленный ей в Потсдаме у одного мясника еще до объединения Германий. Красивый — красного дерева, надежно запирающийся, покрытый резными орнаментами, мифологическими цветам и сардоническими масками кривляющегося Мефистофеля, покоящийся на львиных лапах, трех с половиной метровый шкаф олицетворял для нее все хорошее, солидное, важное, что есть в жизни. Был не мебелью, а машиной существования.
Читать дальше

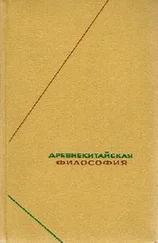


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)