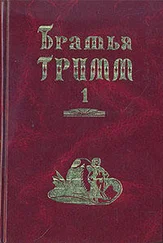Прошлое уже свернулось в пестрый войлочный ком. Ком этот выкатился у меня из под ног и укатился в чеховский овраг, в Уклеево, где дьячок на похоронах всю икру съел.
Будущее так и не пришло, сколько я его ни звал. Не подействовали заклятья старого волынщика.
Настоящее пылает в малиновом зареве.
Ирония судьбы! Страстному любителю фривольных картинок и автору жестких текстов-маркизов, поминок по идеализму. опротивели и картинки и тексты и сам индивидуализм. Опротивел до турмалиновой рвоты и весь всемирный культур-мультур. И особенно — российские коллеги графоманы. упивающиеся лебедиными песнями русской культуры. как веничкины психбольные в «Шагах Командора» — метиловым спиртом.
Но — свято место пусто не бывает. И вот уж чего от себя на старости лет никак не ожидал — мне до дрожи в руках захотелось наслаждаться вещами. Чем-то металлическим, холодным, тяжелым, брутальным. В кресло выдохшейся духовки залез с ногами хам-фетишизм.
Обиженные коллеги скажут: Металлическим? Холодным? Купи себе мясорубку! И наслаждайся.
Вы вульгарны и жестоки, господа. Похожи на меня. Покупайте сами себе мясорубки и соковыжималки, видеокамеры и современные романы, автомобили и дирижабли.
А я куплю дагестанский кинжал…
Положу его на темно-бордовый немецкий бархат, буду на него смотреть и играть на варгане…
Дагестанский кинжал подарили моему деду на шестидесятилетие его старинные друзья-чеченцы. Не настоящий, декоративный. С маленькой изящной рукоятью из слоёного агата. Обшивка ножен и длинный, тупой клинок с тремя желобками посередине — из серебра. Чернь. Резьба. Мар-харай и тутта. Работа мастера.
Мне, тогда четырнадцатилетнему подростку, кинжал не то чтобы нравился, он мной овладел, как Пушкин своими крепостными девками. Я не мог выпустить его из рук, прижимал кинжал к щеке, закрывал глаза и представлял себе лермонтовских героев: Азамата, Казбича, Печорина, Максим Максимыча…
У всех у них, даже у нежной княжны Мери, у искусственного Грушницкого и у доброго доктора Вернера были в руках различные кинжалы, которыми они томно обмахивались как веерами.
Из глубокой раны на спине у Бэлы не лилась ручьями кровь. Она тоже держала в руках кинжал, но не прямой — кама, а искривленный — бебут, и пристально смотрела на смурного Казбича. Темные ее глаза под угольными бровями сверкали как сваровские жемчуга.
Бабушка отбирала у меня кинжал, клала его на книжную полку, за стекло, и говорила неискренно: Гулик, я боюсь, что ты порежешься.
Она знала, что дед не любил, когда я брал в руки его подарки. Дед не любил и когда я делал себе бутерброд на кухне. А особенно не любил, когда я клянчил у него деньги. С легким сердцем давал мне разве что гривенник.
Я попытался выцыганить у деда кинжал, придумал хитроумный обмен, уговорил бабушку замолвить за меня словечко. Но дед был непреклонен и кинжал мне так и не отдал.
Когда дедушка и бабушка умерли, кинжал вместе со всем остальным их скарбом перешел во владение моей железной тетки Раисы. И сгинул в семейной Лете.
Так и осталось во мне — неутоленное детское желание иметь кинжал. Над этой своей слабостью я сам всю жизнь потешался и желание это, несмотря на многочисленные, открывающиеся тут и там возможности — не утолял. Еще чего? Экая блажь!
Но однажды в Иерусалиме… Все-таки утолил.
На улице Эль Кханка в христианской части старого города. По которой пару тысячелетий назад Иисус Христос якобы тащил свой крест на Голгофу.
Забрел я туда не ради сомнительных соблазнов Виа Долорозы (там показывают среди прочего и следы сандалий Девы Марии и углубление в камне, оставленное рукой облокотившегося Спасителя) и уж конечно не для того, чтобы покупать кинжалы, а для того, чтобы посетить магазинчик армянина Кеворка. который торгует фотографиями своего отца, замечательного фотографа Элии Кахведяна, потерявшего во времена бойни, учиненной турками, родителей, пять братьев и трех сестер, переправленного американцами вместе с тысячами других армянских сирот в Ливан, а затем на Святую Землю.
В этой лавке я побеседовал с симпатичнейшим Кеворком, купил у него фотоальбом старого Иерусалима и несколько напечатанных на принтере фотографий Элии. Положил все это в черную сумочку-авоську, в которой обычно ношу йогурты и булочки у себя в Берлине. И в хорошем настроении от беседы с умным человеком и от удачной покупки отправился дальше, по узенькой улице, ведущей к арабскому кварталу, мимо лавок христианских сувениров, мимо мастерских, закусочных.
Читать дальше

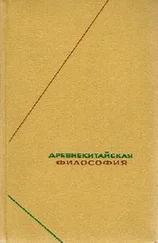


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)