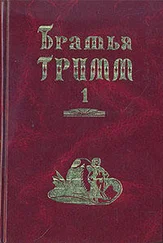— Подохнешь как пес! — отзывается Россия.
Этот шип и этот ор, этот свист валькирий и лай Цербера не так уж страшны — так манифестирует себя твоя вожделенная свобода, это свидетельство освобождения от фантомов государства, культуры, национальности, религии. Приветствие серафимов, посылаемое осмелившемуся сковырнуть осточертевшую скорлупу советчины и нагишом переплыть Стикс.
КРАСНОВО
Вспоминается деревня Красново, вытянувшаяся вдоль берега Можайского моря. Дом отдыха, Старый корпус. Столовая в подвале. Официантки, несущие тяжелые подносы на плечах. На подносах — в несколько слоев — жестяные миски с обжигающе горячим борщом, тарелки с макаронами и маленькими кусочками плохо прожаренного мяса. У официанток красные потные лица. В подвальной кухне жарко. Оттуда доносится стук, звон, ругань. Там повара.
Бабушка выбирала столик, чтобы — не на проходе и у Настюшки. Официантку Настюшку жалели, ее муж дома бил. Она страдала какой-то неизлечимой женской болезнью. Ее красивое русское лицо часто искривлялось в гримасе боли.
Никому из отдыхающих профессоров университета не приходила в голову мысль, что таскать тяжеленные деревянные подносы — работа унизительная, адская. Не женская. Что барщину надо обличать не в проклятом прошлом, а в советском настоящем.
Чиновничьи и профессорские жены с отпрысками даже не подозревали, как их ненавидели официантки, повара, горничные, да и вся огромная деревня Красново, в которой не было ни одного не сидевшего хотя бы раз в тюрьме главы семьи. Хорошо еще, что Дом отдыха был для деревенских кормушкой. Там можно было подработать. Там кино, настольный теннис, там играли в волейбол. Поэтому деревенские его терпели.
Я подолгу рассматривал берега Можайского моря в подаренный мне дедушкой полевой бинокль. Видел поросшие кустарником берега, березы, сосны, пологие холмы на горизонте, плотину, дорогу. Я знал, что она ведет в Бородино. Оттуда как бы доносились ружейные выстрелы и пахло порохом.
На дороге стояла заброшенная церковь с покосившимся крестом, в которой тогда еще висел никому не нужный наполовину сгоревший иконостас с большими иконами.
Я улетал на другой берег. Тут все казалось странным. Потому что на самом деле меня нет. но вот. я перелетаю с сосны на сосну, выхожу на дорогу, бросаю камешек в морду репейника. заглядываю через пролом в стене в церковь. В высоте — искаженное мукой лицо распятого Христа.
Я легко взлетаю на купол церкви, вглядываюсь оттуда в даль. Вижу туманное горячее марево, в котором копошатся оптические черви, шелкопряды судьбы.
Каждый цветок, кустик, каждое дерево, торчащее из воды, каждая его ветка представлялись мне звуком, буквой, словом зашифрованной в ландшафте фразы. Эти сообщения влекли как тайна, как клад. Хотелось их слушать, разгадывать, читать. И я читал и слушал и летал, летал с одного дерева на другое, наслаждаясь свободой и легкостью полета.
Знакомый тополь долдонил — день, день, день.
Огромное затопленное дерево, выбросившее из под воды серые мертвые ветки, вторило — ох, ох, август, лету конец…
Бабушка ходила со мной в лес. Там мы находили уютное местечко в тени. На полянке.
Солнце пекло. По голубому небу плыли белые облака. Тихо звенели комары. Бабушка читала. А я смотрел на траву. Делался маленьким. Бибигоном. Куцая подмосковная травка превращалась в джунгли, в мою детскую Бразилию. В этой странной стране я сражался с жуками и кузнечиками. Искал израненную злыми насекомыми девочку. Маленькую куколку, вылепленную из глины и ожившую. Строил для нее домик и травяную постельку. Прокладывал дороги и разбивал миниатюрные прудики, куда выливал, к неудовольствию бабушки, остатки воды из фляжки. Приготавливал из лепестков повязки, чтобы лечить ей ранки от порезов и укусов. Ее глиняное тело превращалось в настоящее, человеческое, и я ласкал ее и блаженствовал.
Там же в лесу, недалеко от деревни Красное я испытал сексуальное потрясение другого рода, воспоминание о котором мучает меня до сих пор.
Я гулял в лесу один, просто так, без цели. Мечтал. Вдруг заметил что-то движущееся метрах в двадцати от меня. Инстинкт самосохранения заставил пригнуться и затаиться. Послышалось что-то вроде душераздирающего мяукания. Я осторожно подошел поближе.
На траве лежали двое. Одетый в ватник на голое тело пастух петушил деревенского дурачка Фофана, сына Настюшки. В руках у Фофана была веревка, перекинутая через сук. На другом конце веревки болтался, судорожно перебирая лапами, повешенный на ней за половые органы кот, под которым тлел костер. Пастух напевал что-то осипшим голосом, его худой оголенный зад дергался быстро-быстро. Фофан держал веревку двумя руками, дергал ее и ржал как конь.
Читать дальше

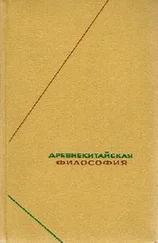


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)