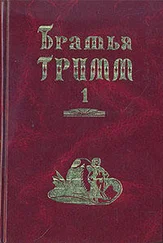Точно большущая черная гусеница, телескоп — многочленное тулово, огромный бумажный таракан с имитацией фар впереди — въехал в освещенную лавку. Покупатели раздвинулись, давая дорогу этому слепому бумажному дракону; приказчики настежь распахнули двери, и я в бумажном своем автомобиле выкатил на улицу…»
Бабочка, гусеница, таракан, дракон — меры в сравнениях Шульц не знает. Как будто делает пробы метафорам, как солдатам. Проверяет в деле, какой лучше подойдет для описания автомобиля-телескопа. А потом жалеет не выдержавших смотра — и оставляет всех в строю.
Письмо, превратившееся в бандероль, развернувшуюся в телескоп, ставший автомобилем — еще одна чудо-метаморфоза писателя-фокусника. Метаморфоза примирительная, развлекательная, хотя и несколько неуместная в этом тексте. Но… я не литературный судья, а благодарный читатель, и так же как Шульц обожаю телескопы.
Следующее чудо Шульца поражает читателя еще больше, чем телескоп-автомобиль. Происходит раздвоение отца. По-кавалеристски лихо разрушает Шульц одну из основ нашего жалкого бытия — единство личности. Пилит Иакова в тексте на части, как фокусник-шарлатан — красавицу в волшебном ящике.
«В обеденный час я вхожу в городе в ресторан, в беспорядочный хаос и гомон клиентов. И кого же я вижу в центре зала за столом, заставленным тарелками? Отца. Все взоры обращены к нему, а он, поблескивая бриллиантовой булавкой в галстуке, неестественно оживленный, расчувствовавшийся до умиления, аффектированно поворачивается во все стороны, ведя многословный разговор с целым залом одновременно. С наигранной лихостью, на которую я не могу смотреть без величайшей тревоги, он заказывает все новые и новые кушанья, и они уже загромоздили весь стол. С наслаждением чревоугодника он поглядывает на них, хотя не управился еще и с первым блюдом. Причмокивая, жуя и разговаривая одновременно, он мимикой, жестами выражает наивысшее удовлетворение этим пиршеством, следит обожающим взглядом за паном Адасем, кельнером, бросая ему с влюбленной улыбкой все новые заказы. И когда кельнер, помахивая салфеткой, бежит исполнять их, отец умоляющим жестом обращается к присутствующим, беря их в свидетели неотразимых чар этого Ганимеда.
— Бесценный юноша! — зажмуривая глаза, восклицает он с блаженной улыбкой. — Ангельской красоты! Признайтесь, господа, он очарователен!
Исполненный отвращения, я удаляюсь из зала, не замеченный отцом… нащупываю в темноте ворота Санатория и вхожу. В комнате темно. Поворачиваю выключатель, но электричество не работает. От окна тянет холодом. В темноте скрипнула кровать. Отец поднимает голову с подушки и обращается ко мне:
— Ах, Иосиф, Иосиф! Я уже два дня лежу тут без всякой помощи, звонки порваны, никто ко мне не заглядывает, а сын бросает меня, тяжело больного, и бегает по городу за девицами. Послушай, как у меня колотится сердце».
Умиление, блаженная улыбка, обожающий взгляд, неотразимые чары, Ганимед, ангельская красота, умоляющий жест — все это намеки на неожиданную для читателя гомосексуальную влюбленность в кельнера разбушевавшегося в ресторане Иакова. Это уже не метаморфоза и не чудо — это провал в новое измерение. Шульц элегантно ставит все с ног на голову, похохатывая, бросает нам в руки гранату и вышвыривает нас из уже обжитого мира. Иаков — гомик? Гомик-мертвец?
И тут же, мы еще не успели рта раскрыть и съежиться, автор успокаивает нас холодным душем. Отец в Санатории. Он тяжело болен. От окна тянет холодом… скрипит пыльная кровать… звонки (а мы знаем, что за ними кроется!) порваны…
А затем в рассказе вдруг появляется лирическое отступление. О девушках-красавицах, разумеется. Видимо, подсознание фетишиста не смогло не отреагировать на голубоватую сцену в ресторане. Всесильный спрут привычно втянул свою трепещущую жертву в пасть.
Иосиф решил прогуляться. И заметил то, что и должен был заметить. А именно — «своеобразную походку местных барышень. Это продвижение по неумолимо прямой линии, не считающееся ни с какими преградами и подчиненное только некоему внутреннему ритму, некоему закону… каждая из них несет в себе, словно заведенную пружинку, свое собственное, индивидуальное правило. И когда они так идут, прямиком, вглядываясь в это правило, полные сосредоточенности и серьезности, кажется, будто у них одна-единственная забота — ничего из него не уронить, не сбиться с исполнения трудного правила, не отклониться от него ни на миллиметр… то, что они с таким вниманием и так проникновенно несут над собой, является ни чем иным, как некая idee fixe собственного совершенства… некое предвосхищение, воспринятое на собственный страх и риск, без всякого поручительства, неприкосновенная догма, не подлежащая никаким сомнениям… Какие изъяны и недостатки, какие курносые или приплюснутые носики, сколько веснушек и прыщей гордо проносится под флагом этой фикции! Нет такого уродства и банальности, которую взлет этой веры не подхватывал бы с собой и не возносил в фиктивное небо совершенства! Под прикрытием этой веры тело просто явственно становится красивей, а ноги, действительно стройные и упругие ноги в безукоризненной обуви…… в кафе и в театре здешние девушки кладут ногу на ногу, высоко, до колен, открывая их, и красноречиво ими молчат».
Читать дальше

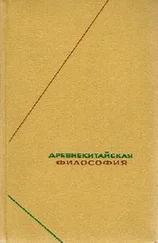


![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)