— Ну, пошли, что ли.
— Эх, — пробормотал я, поднимаясь, — старость не радость… И куды нам спешить? Все равно раньше ночи поездов не будет.
— Здорово он тебя шуранул.
— Кто? Черный? Да нет, это не от этого. У меня ноги сами собой болят. Еще пока сижу, ничаво. И до другого барака дойду — тоже ничаво.
— А дальше? — спросил слепой.
— Дальше что? Ясное дело. Отметили меня, будь здоров — обратно еле приполз. С носу текст, зубы — которые сочатся, которые шатаются, здесь саднит, там хрустит — сижу, бока свои щупаю. Кругом уж все спят, умаялись с дороги. Тут старик — сундук у которого — ко мне пододвигается, шепчет: ну как? Цел? — Цел, говорю… Все равно, говорю, я это так не оставлю. Я на этих собак жаловаться буду. Буду писать аж до самого Верховного Совета! — Старик на меня поглядел, поглядел. Спрашивает: ты на воле кто был? Чай, из деревни колхозник? — Колхозник, говорю, а что? — По указу? — Да нет. говорю, какой еще указ? — Я еще тогда про указ и не слыхал. — Пятьдесят восьмая? А за что? — спрашивает. — А я и сам, говорю, не знаю за что. В войну у нас немцы стояли. Там потом, когда наши вернулись, сразу полдеревни забрали. Приехали три машины, и ау, поминай как звали. — Старик, молчит. Потом полез в свой пустой сундук, достает оттель какой-то лоскуток: на, говорит, утрись… высморкнись. Эх, ты, говорит. Мужчина пожилой, а ума не накопил. Чего ты рыпаешься, чего вперед других лезешь? Хвост подымаешь. Тебе больше других надо? Жаловаться собрался. На кого? На всех не нажалуешься… Тут этой шоблы, знаешь, сколько? — косяками ходют. Их сюда тоннами сгружают, эшелонами возют, возют — не перевозют. Тут пол-лагпункта в законе, а другая половина — шестерки, ворам кашу варят. Тут закон — тайга, медведь — прокурор. Это за проволкой — заключенные. А снаружи и вовсе одно зверье. Жаловаться… Куда ты полезешь жаловаться, ты на всем свете один. Сиди да помалкивай… — Ну, я, пожалуй, того, присяду, — сказал я слепому.
Справа кювет, слева дорога. Мы молча плелись по обочине, держась друг за друга. Замечтавшись, я вспомнил один за другим те далекие годы. Может, они мне приснились?
— Приеду домой, вот матка обрадуется, — ни с того ни с сего горделиво сказал слепой.
— Ась? — очнулся я.
Впереди опять тянулась дорога, за кюветом, по правую руку, торчали обглоданные деревья, пни… Как же, подумал я, обрадуется. Есть чему радоваться — без глаз-то.
— А ты ей писал?
— Про чего?
— Ну, про это самое… — сказал я. — Про свою жизнь.
— Не, — сказал слепой, подумав. — А чего писать? Сама все и увидит.
— А баба у тебя есть?
— Да, была одна… — Он поправил за спиной мешок.
— Ну и как?
— Что как?
— Как ты насчет ее располагаешь?
— Насчет бабы-то? Да никак. Не поеду я к ней. На хрена она мне сдалась.
— Жена она тебе?
— А то кто же… Писала тут. Жду, приезжай.
— Ну и ехал бы.
— Не, не поеду. На черта мне… Я лучше к матке.
— Да… — вздохнул я. — Каждый, конечно, рассуждает как ему лучше. Я вот тоже. И так и сяк прикинешь. И все на одно выходит. Я так думаю, что нам с тобой, брат, по-настоящему не вперед надо теперь идти, а назад. Вот куда топать надо по-настоящему-то… Я уж который месяц думаю: ну, освободят меня. А куды я пойду? В деревне, чай, никого уж и не осталось. И что я там буду делать, кому я там нужен?
— Зато на воле, — сказал слепой.
— На воле? А что в ей, в этой воле? На воле тебе пайку хлеба не поднесут. И одежду не справят, не надейся. А еще жилье надо, и пач-порт, и черт-те что. И куды ни сунешься, всюду на тебя пальцами будут тыкать: ты, мол, такой-сякой, немазаный, изменник родины, поди-ко подальше… А в лагере я, к примеру, дневальный: убрал свою секцию, печки истопил, потом работяг встретил, начальству баланду принес. И лежи себе на нарах, отдыхай. В лагере у меня крыша над головой, и харч, и все меня знают. Нет, я человек старый, мне польку-бабочку не танцевать. И бабы мне не нужны. Ничаво мне не нужно! Я, может, всю жизнь свою одну загадку разгадывал: что человеку нужно? А ему ничаво не нужно. И мне не нужно. Вот сейчас доведу тебя до станции, а сам пойду назад проситься. Возьми меня, скажу, начальник, сделай милость, нет у меня дома, здесь мой дом, мать его за ногу! Я разволновался и теперь уже никак не мог успокоиться.
— Постой, дед, не шуми, — сказал слепой. — Неужто тебе хоть на старости лет на жизнь-то поглядеть не хочется?.. Да ты не садись, пошли.
— Не пойду я! Куды я пойду? Ничаво мне не нужно..
— Ну и дурак.
Мы оба умолкли. Каждый думал о своем.
Читать дальше



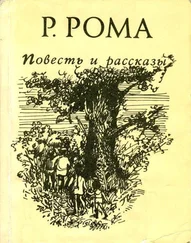
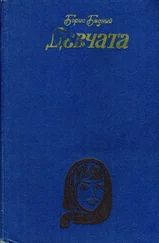



![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)


