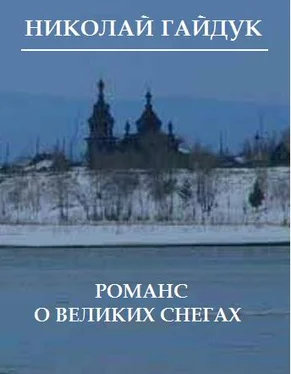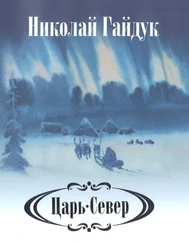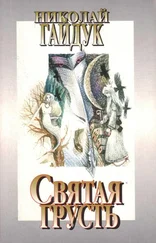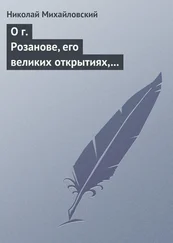Возле камелька валялась пустая корзина из-под еды. Пустая кедровая хлебница тоже на полу. Горсточка рассыпанной махорки на подоконнике.
Артамоныч цигарку хотел свернуть, но руки тряслись, рассыпая табак. Он бросил «козью ногу». Выйдя за дверь, увидел крышку погребка, отброшенную в сторону. Подошел, посмотрел – как в пустую могилу.
«Всё забрал, пройдоха!» Почекутов направился к реке, поскользнулся на бледноватой скошенной траве, чуть не упал.
Лодки у берега нет. Старик понуро опустился на бревно, к которому привязывал дощаник. Из-под руки посмотрел на реку, вспоминая, что внучка должна приплыть. И эта мысль – о внучке – жиганула предчувствием чего-то неизбежного, непоправимого.
Почекутов подскочил, засуетился на берегу, не зная, как быть и что делать – хоть пускайся вплавь, да только разве пустишься. Это по молодости – на спор – он переплывал самые бурные реки. А теперь-то не сильно разгонишься. Но и сидеть, сложа руки, – никакого спасу нет. И Артамоныч вспомнил, что где-то здесь должен быть старый плот из трёх, из четырёх пузатых брёвен – так называемый салик. Может, на нём попробовать? Вниз по течению сплавиться, причалить берегу, а там уж будет видно.
Салик, прибившийся откуда-то с верховий, несколько дней стоял в красноталовых кустах возле протоки, на брёвнах чайки отдыхали, кулики, зимородок. Никому тот салик сто лет не нужен. И, тем не менее, старик не мог найти. Походил по берегу. Сел на траву. Ушибленную голову руками обхватил. «Вот наказание!»
Вдалеке послышался лодочный мотор. Почекутов поднялся, напрягая глаза. Разглядел какой-то странный, расплывчатый силуэт, появившийся из-за тёмного мыса. Вроде как две лодки на реке: одна скользила по воде, а другая над нею – точно летела по воздуху.
Старик протёр глаза и вскоре понял: впереди шла моторка, распускающая белые усы, а следом за ней – на буксире – вторая лодка. И чем ближе становился этот «караван», тем тревожней делалось Артамонычу.
В моторке сидел участковый – приземистый, плечистый Филимон Коврига, в милицейской форме, без фуражки, чтобы ветром не сорвало. А на привязи тащилась лодка со старухой – бледной, заплаканной Ильиничной.
«Караван» причалил – тяжко ткнулся в берег.
Коврига заглушил мотор. Поднял фуражку – в ногах лежала. Ильинична, увидев старика, завыла в голос, а участковый, натянув фуражку до бровей, засмолил папиросу.
– Зачем ты баб своих одних-то отпускаешь? – сурово заговорил он.
– А где… – Голос Почекутова осёкся. – Где внучка? Филимон отозвал его подальше от плачущей бабки.
Стал рассказывать, хмуро скользя глазами по берегам:
– Они причалили вот там, возле Кривой Карги. Ошиблись. Туман по низинам стоял. Ну, и пошла она, стало быть, посмотреть, где избушка… – Участковый затоптал окурок. – Ты здесь никого не видел? Из чужаков. Слышь, Артамоныч?
– А? – Старик поморгал. – Был тут один пройдоха.
– А кто такой?
– Хрен его знает. Дачником представился. – В рубахе с петухами? Штаны с заклёпками? – Ну, – подтвердил старик. – Солома на башке.
– В том смысле, что соломенная шляпа? – уточнил Коврига. – Ну, стало быть, он самый…
– Кто? Кто? Чего молчишь?
– Головорез. На нём судимостей, как блох на той собаке.
Есть подозрение, что внучка в лапах у него, в заложниках…
У старика потемнело в глазах. Пошатываясь, он побрёл Ильиничне, хотел что-то спросить, но старуха, увидев его, ещё громче зарыдала и запричитала. Артамоныч, продолжая двигаться вперёд, зашёл по колено в холодную воду – из-под камней там били родники. Шумно умылся, вытерся мятым подолом рубахи. Посмотрел на воду, играющую солнцем.
Потом посмотрел в небеса, где ходил кругами крылатый хищник. «Да как же это, господи? – оглушенно думал Артамоныч, вспоминая очаровательную улыбку парня. – Да что же он?» Старик опять студёною водой поплескал на лицо и на грудь. Глаза его понемногу стали разгораться непостижимым каким-то, воспалённым огнём, а в груди поднималась такая кипящая сила, которая не раз, не два выручала в рукопашном бою и толкала на вражескую амбразуру.
Человек на земле проживает несколько жизней. Иногда проживание это остаётся почти незамеченным, а иногда переход из одной ипостаси в другую происходит очень болезненно. Так было с Почекутовым. До войны он голову курёнку отрубить не мог, не говоря уже о том, чтоб заколоть свинью – мужиков соседских приглашал за поллитровку. Силы в нём от природы с лихвой, а вот духу – кровь невинную пролить – не доставало. А на фронте что-то в нём переломилось. Война в душе то ли погасила что-то, то ли наоборот – высветила нечто непонятное, что затаилось в самом дальнем, самом глухом углу. И это «нечто» особенно сильно во хмелю проявлялось, вот почему он и решил покончить с выпивкой – после войны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу