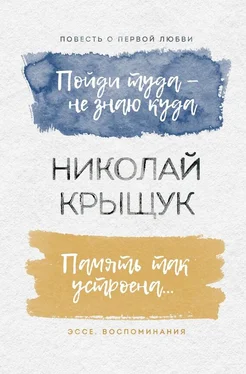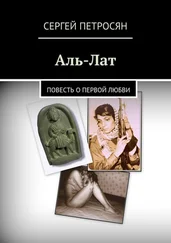Он не раз пытался подчинить ее своему воображению, но Саша не давалась, словно бы не желала вписываваться в его фантазии. Не раз он мысленно сталкивал их с Фаиной, испытывая странное удовольствие от их несовместимости.
Но каждое утро Фаина, пахнущая флоксами, неизменно оказывалась рядом, Саши же не существовало вовсе.
И вот настал тот день. На влажном доминошном столе Васька Мясников разложил перед ним только что отпечатанные, искривившиеся, как осенние листья тополя, фотографии незнакомой голой женщины. Глаза ее были скрыты черной полоской.
Через несколько минут он уже был в жарко натопленной комнате, за вишневой занавеской, где на сундуке покоились днем одеяла и подушки. У неплотно прикрытой заслонки сипло постанывал ветер, пахло раскаленной краской. Молчал ящик фисгармонии, звенел над головой мохнатый сверчок.
И вдруг, в тот момент, когда совсем уже, было, пропал он для себя, мелькнуло перед глазами лицо Саши. И было оно словно ставший зримым звук. С тех пор исчезло оно надолго из его памяти и, быть может, самую живую, самую трепетную часть ее унесло с собой.
НА БАЛКОНЕ ОН СПРАШИВАЕТ, РАЗГЛЯДЫВАЯ ЦВЕТЫ:
– А эти как называются?
– Это львиный зев, – отвечает мама.
– Странное название, – говорит Андрей. – Но пахнут как! Я с детства запах помню. А эти?
– Это петунии.
– Петунии, – повторяет он машинально.
У него нет памяти на имена. И на цветы. Вот уже который год он так выходит на балкон и заново узнает у матери их названии, и радуется им, и запоминает, чтобы тут же забыть.
– Я пойду погуляю, мама, – говорит он, чувствуя, что фраза вышла чужая. – Пойду прошвырнусь, – добавляет он.
– Иди – говорит мама, – ты совсем не отдыхаешь в последнее время: тетрадки, педсоветы.
Он уже второй год работает в школе.
И мамин ответ он слышит тоже как бы вчуже, как будто в переводном фильме, где фразы так меланхолически и странно соотносятся с движением губ говорящего.
Одинокие шатания стали привычны ему. По вечерам он прогуливал свою тоску. А может быть, правильнее сказать, сам он тащится на поводке у тоски. К концу прогулки тревога обычно переходит в чувство необъяснимого грустного удовлетворения, в спокойствие и почти счастье.
Сегодня он направляется к парку, в глубине которого мощным волчком гудит мототрек. Сначала он проходит мимо «машинного кладбища», разглядывая в прорехи бетонного забора чрева полуторок и «эмок», трактора с облупившейся оранжевой краской, экскаваторы, ковши которых напоминают разинутые челюсти доисторических животных.
Рядом с «машинным кладбищем» тянется канал. Стоячая вода его густа как мазут. В ней застыли перламутровые разводы нефти. Ему представляется, что художник, писавший закат, окунул сюда по ошибке свою кисть.
Камень падает в канал глухо, не образуя кругов, лишь на миг усиливая и без того резкий запах.
Скоро канал кончается. Нужно только пройти по доске, середина которой погружается под ногой в воду, переступить через залитые смолой трубы, и начнется парк. Видно, что он давно уже растет сам по себе. Наверное, когда-то здесь был склад. Стоят насквозь просматриваемые амбары, жутко поскрипывая распахнутыми воротами.
В парк можно войти через один из этих амбаров. Но он боится вспугнуть обитающих там птиц и идет дальше.
Справа в конце коридора, образуемого густой бузиной, видна калитка, а за ней почти совсем закрытый зеленью дом. Он никогда не подходил к калитке и не знает, кто живет в этом доме.
В конце бузинной аллеи можно еще увидеть кусты с красивыми белыми цветами. Он не знает, что это кусты жасмина, и уже в который раз хочет описать кому-нибудь эти цветы и спросить их название, но всякий раз забывает.
Вообще весь этот парк напоминает пейзаж его жизни. И амбары, дальние ворота которых выходят прямо в небо, и разинутые доисторические челюсти экскаваторов, и этот дом, в который он никогда не зайдет, и цветы, название которых он не знает, – все это не просто что-то значит, не просто намекает, например, на какие-то неисполненные обещания, но является как бы панорамой его жизни, развернутой в виде этих невнятных аллегорий. Он не может объяснить этого до конца, но знает: в пейзаже не только его прошлое, а и будущее.
Домой он приходит поздно. Мама ждет и все же вздрагивает, когда он открывает дверь своим ключом.
– Я не сплю, сынок, заходи – говорит она.
Глаза у нее совсем больны – катаракта. Она уже давно живет на лекарствах, не может вязать, не может долго читать или смотреть телевизор. Поэтому ждет его в комнате, не включая света. И все время помаргивает, как будто испуганно прогоняет ресницами кружки сна. Он порывисто целует ее и обнимает, и ему уже не кажется, что он все это наблюдает с экрана. На мгновение ему представляется, что он, наконец, открыл ту калитку и вошел в дом, и оказалось что там его ждет мама. И что там было гадать и мучиться, когда только так и могло быть и лучше этого ничего быть не могло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу