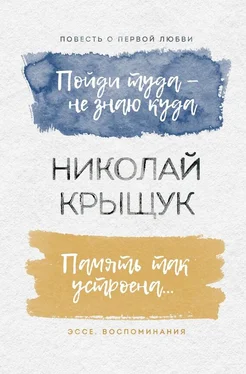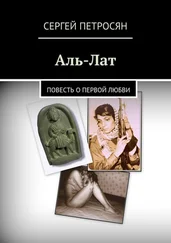Поминки в завершающей своей фазе напоминают свадьбы. Тут и флирт, и философские разговоры, и всплывший в памяти анекдот, благородно отвлекающий всех от неумолимой и подлинной скорби.
Хотя покойник ведь и сам завещал нам особенно не кручиниться, а помянуть его весело, как, ему казалось, он и жил. Вот и выполняем с некоторым даже излишним усердием его волю.
А, в общем, «смерть – это то, что бывает с другими». Собственной смерти не бывает. Как и собственного рождения. В этом загадка то ли жизни, то ли смерти – по-моему, они сами не могут поделить поля. Загадка же по существу в том, что мы не можем вне присутствия другого, вернее, вне представления о его переживаниях почувствовать эти происшествия. Ну, так и как?
А так, что мы, возможно, сами по себе и вообще не существуем.
Это несколько обидно. Получается, что если никто не радуется, то я как бы и не родился, а если не печалится, то как бы и не умер. Невыносимо.
А иначе не получается.
Вот вам многоумный и задумывающийся об этом Михаил Бахтин: «Потеря себя не есть разлука с собою – качественно определенным и любимым человеком, ибо и моя жизнь-пребывание не есть радостное пребывание с самим собою как качественно определенною и любимою личностью. Не может быть мною пережита и ценностная картина мира, где я жил и где меня уже нет. Помыслить мир после моей смерти я могу, конечно, но пережить его эмоционально окрашенным фактом моей смерти, моего небытия уже я не могу изнутри себя самого, я должен для этого вжиться в другого или в других, для которых моя смерть, мое отсутствие будет событием их жизни. Совершая попытку эмоционально (ценностно) воспринять событие моей смерти в мире, я становлюсь одержимым душой возможного другого, я уже не один, пытаясь созерцать целое своей жизни в зеркале истории, как я бываю не один, созерцая в зеркале свою наружность».
Молодой Бахтин, кажется, видел в этом даже некоторую отраду. Я не могу. Потому что не то что мне моя жизнь дороже (в каком-то смысле – да, в каком-то – нет), но воображение мое, возможно, не так гибко и бескорыстно.
Со своей смертью даже понятнее, чем с чужой. Тут есть спасительная возможность обмануться. Я себе представляю мир после меня глазами другого, вложив в того, другого, всю меру моей любви к себе, как меру его любви ко мне. Но, стало быть, похоронив близкого и вглядевшись в собственное состояние, я могу представить и то, насколько интенсивно и трагично оставленный мир будет осознавать мое отсутствие. И наблюдения эти печальны.
Да, воображение мое не так гибко и бескорыстно. А отсутствие в нем вчувствованности в несуществование другого означает не просто предательство того, но знаменует факт его насильственной посмертной гибели. И тут уже я не так себе – предатель, а убийца. Ничего и не поправить, не порешив себя. А себя порешив, тем более ничего не поправить. Тогда останется легенда о слепом исходе твоей замученной совести, а не о том, смерть кого явилась поводом для этого исхода. То есть его все равно снова не будет, и теперь уже навсегда.
Бахтин верил в природную диалогичность человека и в диалогическую природу Бога. Понять это не так уж трудно, почувствовать – сложнее, поверить – невозможно.
Мой брат, Виталий, умирал дома. Перед смертью сказал мне: «Когда стану умирать, всех из комнаты выгони. Перед ними мне будет неловко и тяжело. Ну, ты понимаешь. А с тобой спокойно».
Мать и отца я в комнату не пустил, а жена осталась. Витя дышал хрипло, с открытыми глазами, горло сузилось, все силы уходили на дыхание. Часа за два до этого он перестал разговаривать. Потом глаза закрылись и грудь стала ходить тише, по убывающей. Он уже не прощался, он уходил, оставались мгновенья.
Было воскресенье. Жена его задала какой-то практический вопрос, зная, что всё, даже траурные услуги, у нас по воскресеньям отдыхает. Я ответил, не помню что. Но думал о родителях, о том, что нельзя им с умершим сыном оставаться на сутки в одной квартире.
В это время брат открыл глаза, сделал еще несколько тяжелых вздохов и так с открытыми глазами затих.
Не могу себе простить. Этой вины ничем не отмолить и забыть ее невозможно. А что, если он слышал нас? Говорят, после смерти человек еще какое-то время слышит и сознает. А он ведь еще фактически был жив!
Так-то я его проводил? Даже в последние секунды не дал отдохнуть от мелкой стервозности животного расчета. Быть может, это мгновенье было самым главным во всей его перековерканной жизни, и он с чем-то хотел примириться и во что-то поверить. А я не дал, не успокоил, не смог остаться с ним до самого конца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу