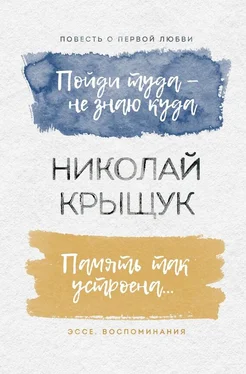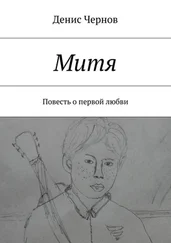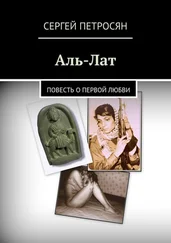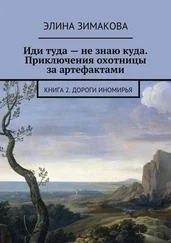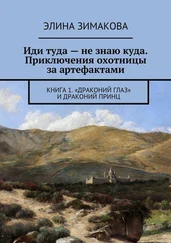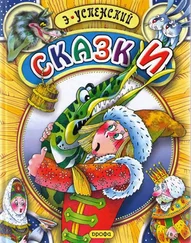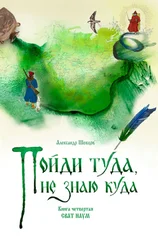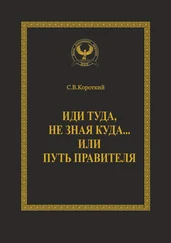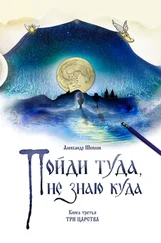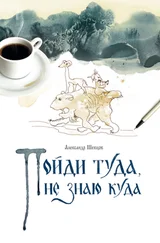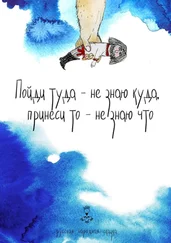…Я слежу за нарастанием безумия, читая Грани, Ежедневный журнал, Сайт Эха Москвы, NEWSru.com, Радио Свобода и смотря (иногда) передачи Савика Шустера в Киеве. Это над нами какая-то насмешка истории. Этого просто не могло быть. Это антиутопия в чистом литературном виде…У меня сейчас фаза активности (только что кончился второй курс химии). Чувствую себя чуть ли не здоровым и даже – впервые за год – пишу текст, уже 17 страниц. Но это все ненадолго, потом наступает фаза апатии с изнеможением. Хочу успеть хотя бы с этим текстом, хотя ни малейшей ценности он не имеет. А хотелось бы, чтобы имел, черт возьми. (Хлестаковская фраза, правда?)
Беседа: Теория точек. Разговор начался с «Литератора Писарева». Роман был задуман в конце шестидесятых. Саня показал мне главку. Уговоры продолжать ни к чему не приводили.
Сейчас во всех биографических справках утверждают, будто роман и написан был в шестидесятые. Это не так. Большей частью написан он был и закончен лишь к концу семидесятых.
Я стал работать в издательстве «Детская литература». Пообещал, что издательство заключит с ним договор – надо писать. Договор заключили, роман двинулся и… стал моим последним предприятием в «Детгизе». После положительных рецензий директор в мое отсутствие заказывал рецензии разгромные и абсолютно безграмотные. Вроде того, что необходимо подробнее рассказать об отношениях Писарева и Пушкина. Мы с Саней доблестно составляли ответы, но в дело вмешалось КГБ, и вопрос, в сущности, был решен. Эта история подробно рассказана С.Л. в «Биографии внутреннего человека». После того, как автору выплатили положенные деньги (была такая процедура с формулировкой «творческая неудача»), я из издательства уволился.
Роман вышел лишь в начале перестройки, через восемь лет. До этого печатался в «Неве». С.Л. подарил мне журнал с надписью вроде: «Дорогому Николаю Прохоровичу – организатору и вдохновителю наших побед». На надпись я взглянул мельком – мы уже отмечали публикацию. Он спросил: вы не узнаете эти слова? Я не узнавал. Он, засмеявшись: так ритуально обращались к Сталину.
До смерти боялся сентиментальности. Надписи на всех последних книгах, напротив, полны прямого изъявления чувств. И в последнем своем письме из Америки Саня с благодарностью поминает историю с «Литератором Писаревым».
Раньше я никогда не интересовался, почему все же героем романа стал именно Писарев. После Ватто, Пушкина, Гоголя, Анненского выбор немного странный. Как это случилось?
– Отчасти по житейским соображениям. Это был конец 60-х – оттепель прошла. Я хотел существовать в литературе – стало быть, должен был искать компромисс. Политический и жанровый. Критика была, по сути дела, тактикой. Критику писать я не мог. Прозаиком себя не мнил. Т. н. литературоведение притворялось наукой слишком грубо: дурные тексты о текстах хороших, и только. Плюс арматура.
Это, помните, нам говорил еще наш общий учитель Дмитрий Евгеньевич Максимов: у каждой диссертации должна быть арматура. Имелась в виду библиография, которая, как известно, начиналась именами Маркса, Энгельса и Ленина.
Однажды нескольким молодым литературоведам, в том числе и мне, дал аудиенцию тогдашний директор Пушкинского Дома. Кто чем хотел бы заняться, какой темой, и прочее. Он на моих глазах извлек из картотеки ящик: «Вот, смотрите, о Тютчеве защищено сорок семь диссертаций». После нескольких таких манипуляций выяснилось, что все про всех написано и защищено, хотя имеются и белые пятна: это такие имена, которые фигурируют в названиях всего лишь двадцати трех, допустим, диссертаций. С тем мы и ушли, услышав на прощание: «Подумайте, молодые люди». То есть все, типа, по-доброму. Однако само собою разумелось, что без арматуры ни в каком случае не обойтись. Ну, я подумал и понял, что для меня этот путь, к сожалению, закрыт.
Оставалась историческая беллетристика. Точнее, биография.
Но и тут: про кого можно было писать? Про пламенных революционеров. В крайнем случае – про сатириков XVIII века. Возможно, до сатириков этих я и добрался бы, но в ту пору я жил веком XIX. А ни про одного из классиков XIX века написать было нельзя без лукавства.
Писарев же оказался фигурой подходящей. С одной стороны, он не считался революционным демократом. Поэтому ЦК КПСС не занес его в списки «пламенных революционеров». С другой – как ни крути(,) – жертва царизма, сидел в крепости.
То есть иконописный канон на него не распространялся. О нем в принципе допустимо было написать просто как о несчастном человеке. Просто как о честном литераторе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу