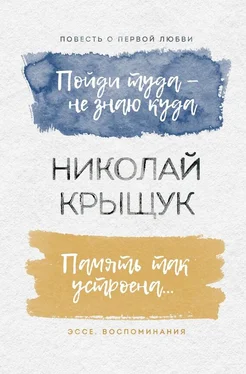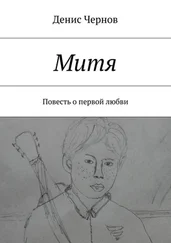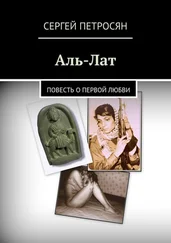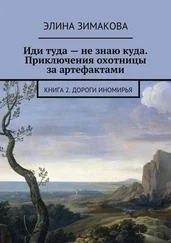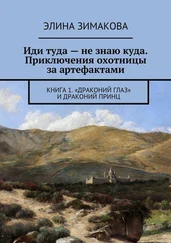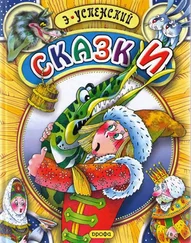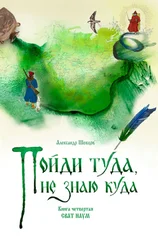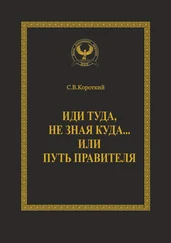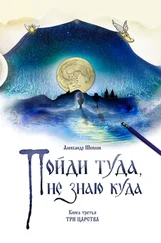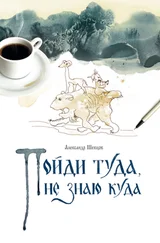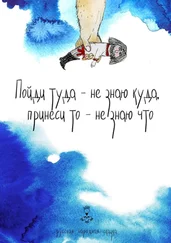Существует, однако, еще одна версия, гораздо более содержательная, чем версия о меценате: в «митре бобровой» показан важный для акмеистов, и для Мандельштама в том числе, русский философ Константин Николаевич Леонтьев. Андрей Арьев первым отметил, что стихотворение (1931) написано в год столетия философа. Он же приводит цитату из «Шума времени», где дан поразительный по сходству со стихотворением портрет: «Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложен портрет, в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства».
Отличие, конечно, тоже бросается в глаза: у «колючего зверя» вряд ли могло быть чисто человеческое выражение «важности глупой». Кроме того, как замечает сам Арьев, Леонтьев для Мандельштама не был развенчанным пророком, но оставался фигурой актуальной. В сущности, поэт жил в том мире, который был предсказан и описан философом. Почему бы ему оказаться в ряду тех, кого автор стихотворения отвергает? Блок гораздо больше подходит на эту роль, хотя бы потому, что Мандельштам принадлежал к поколению преодолевших символизм. Но были причины и более глубокого, интимного, психологического свойства, что опять же больше соответствует тональности стихотворения. Согласимся на то, что высказываемая мной версия является психологическим, бессознательным подтекстом стихотворения и в этом качестве сосуществует с утвержденным портретом Леонтьева. Поэтому вернусь к ней.
Интересно, видел ли Мандельштам ту фотографию Блока? Впрочем, что гадать, когда они могли просто встретиться на улицах зимнего Петербурга, и Блок был именно в этом головном уборе. Да и это не столь важно. Блок принадлежал к тому «взрослому» Петербургу, о котором стихотворение. А насупленным, стоящим на ступеньку выше, скрыто раздраженным Мандельштам мог его видеть не раз. Вот, например, строчки из «Записных книжек» Блока: «Вечером почему-то… приходил Мандельштам. Он говорил много декадентских вещей, а в сущности, ему нужно было, чтобы я устроил ему аванс у Горького, чего я сделать не мог». Отказ в способствовании получению денег – знаковый эпизод для памяти вечно уязвленного Мандельштама.
Есть в этой части строфы и еще одна говорящая деталь: «египетский портик».
Предполагаемый адрес нашел я в эссе Алексея Пурина – Большая Морская. Но, что важнее, Пурин, как и я, считает, что бытовые реалии не самое главное в этих стихах: «Между прочим, „египетский портик банка“… отчетливо корреспондирует с монументально-египетскими барельефами Азово-Донского банка, выполненными скульптором Кузнецовым. Прочтем эти мандельштамовские стихи непредвзято – увидим: дело здесь, разумеется, не в соблазне финансового могущества, не в бобровой азиатской митре предпринимателя-нувориша, не в крупнокупюрном хрусте и не в пляске цыганки.
Все это, скорее, претензия к литературе – например, к Блоку. Или к Ахматовой – с ее „устрицами во льду“. Претензия к литературному романтизму, граничащему с душещипательной „водочкой“ бытописателей и лакейскими „ананасами“ футуризма… Претензия к массовой культуре – даже в таком благообразном, как у Ахматовой или у позднего Пастернака (хвоя в новогоднем салате, „всех водок сорта́“, „музыка во льду“ – чем не „устрицы“?), облике…»
Да, добавлю я, еще обида на «взрослых», которые в этом державном мире кушали и выпивали, для опрятности и благообразия пользуясь салфеткой романтизма. И Блок, конечно, Блок прежде всех.
Поэтому и египетский портик – не только каменные барельефы Кузнецова. Быть может, портик только удачно скрепился с прилагательным «египетский»: именно этот звук просился в строку назойливо и самостоятельно.
Потому что Египет это тоже момент размолвки с Блоком. У Мандельштама в «Египетской марке»: «милый Египет вещей», одна из его утопий предметно обустроенного рая. В стихотворении «Египтянин», например:
Я выстроил себе благополучья дом,
Он весь из дерева, и ни куска гранита…
В столовой на полу пес растянувшись лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —
Загробных радостей вещественный залог.
Именно здесь он находит вожделенное «телеологическое тепло» вещей, обещающее одомашнивание бытия через быт, поэтому так важна для него, в частности, философия Бергсона.
У Блока Египет – это восковая Клеопатра в паноптикуме и Снежная Дева, которая «пришла из дикой дали», и «родной Египет» снится ей и «сквозь тусклый северный туман». Египет и север здесь словно мужская и женская рифма к вариантам страсти. Кроме заказной пьесы «Рамзес» 19-года, все стихи Блока, в которых есть мотив Египта, а также очерк «Взгляд Египтянки» так или иначе связаны с любовной темой, которая у Мандельштама появится уже в третьей строфе обсуждаемого стихотворения, и именно как причина «надсады и горя».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу