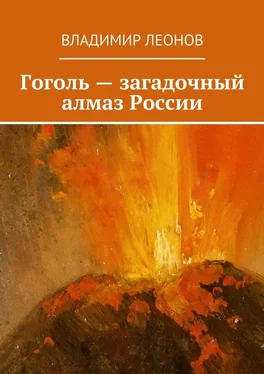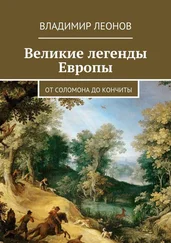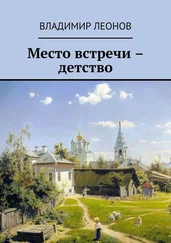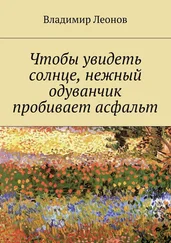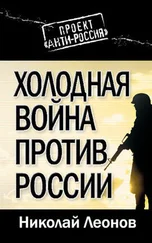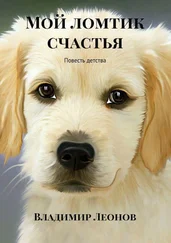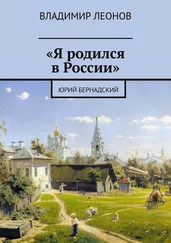Кроме того, у Н. В. Гоголя можно найти ту точность, с которой Данте описывал Ад. Особенно это видно в сцене «совершения купчей», где Гоголь использует реминисценцию из Данте. Но опять – таки эта точность сплошь проникнута иронией. В этой сцене роль язычника Вергилия исполняет чиновник, а Чичиков – следователь по загробью. Вергилий оставляет Данте перед следованием в Рай, куда ему путь возбранен. Провожатый Чичикова оставляет его на пороге другого «Рая» – кабинета председателя, где, подобно Данте, Н. В. Гоголь использует символику света, играющую важную роль в изображении Эмпирея. Теперь – это председатель и зерцало, отражающее свет истины.
Не прибавить ли уж к заглавию: поэма нашего времени? Такая трактовка продиктована, конечно, лермонтовским романом, но и он не дает четкого ответа, что же это такое. Оба художника написали картину «нашего времени», а как это понимать, читатель должен решить для себя сам.
В заключение хотелось бы рассмотреть иную, отличную от дантовской, концепцию объяснения жанрово – композицонного своеобразия поэмы. К мысли, что каждый последующий помещик первого тома мертвее предыдущего, склонялись такие известные критики, как А. Белый, А. Воронский. Но даже не основываясь на дантовской традиции, эти суждения можно поставить под сомнение. Галерея помещиков начинается с Манилова, потому что он бесцветнее всех и не будет отвлекать внимание читателя на себя. Кроме того, его реакция на предложение Чичикова сразу же ставит на первый план то, что нужно Гоголю. Если бы на месте Манилова оказался, скажем, Собакевич, сообщение Чичикова не произвело бы такого эффекта.
Многослойность поэмы Особую роль в композиции играет мотив « кривого колеса». Вначале расположение глав полностью совпадает с планом Чичикова, но затем вступает в действие этот мотив, и герой сбивается с дороги и попадает не туда, куда хотел: вместо Собакевича – к Коробочке, Ноздреву. Игра задуманного и неожиданного составляет, таким образом, особенность композиции. Во втором томе она тоже сохраняется: вместо одного помещика Чичиков попадает к другому и так далее.
Еще одна особенность композиции – использование Н. В. Гоголем вставной повести – «Повести о капитане Копейкине». Действенно и другое определение, которым почтмейстер предваряет свое повествование, – «поэма». Таким образом, вставная повесть, несмотря на свою кажущуюся самостоятельность, жанрово связана со всем произведением: в рамках «Мертвых душ» как поэмы возникает еще одна поэма. Н. В. Гоголь всегда считал поэму «Мертвые души», работа над которой длилась около 17 лет, главным произведением своей жизни. В письмах В. Жуковскому он восклицает: «Клянусь, я что – то сделаю, чего не сделает обыкновенный человек… Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! ». Действительно, замысел произведения был чрезвычайно сложен и оригинален. Он во многом требовал переосмысления взглядов на жизнь, на Русь, на людей. Необходимо было найти и новые способы художественного воплощения замысла. Привычные рамки жанров становились для него слишком тесными. А потому Н. В. Гоголь ищет новые формы для завязки сюжета и его развития.
В начале работы над произведением в письмах Н. В. Гоголя часто фигурирует слово «роман». В 1836 году Гоголь пишет: «…вещь, над которой я сижу и тружусь теперь, и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинн ая…» И все же впоследствии Н. В. Гоголь склоняется к следующему определению жанра своего произведения: поэма.
Гоголь никогда не относился к писателям, которые стремились «уложить» свое произведение в рамки какого – либо общепринятого жанра. Творческое воображение могло диктовать ему свои законы. А потому, начав с жанра традиционного авантюрного романа, Н. В. Гоголь, следуя все более и более расширяющемуся замыслу, выходит за рамки и романа, и традиционной повести, и поэмы. И в результате писатель создает, по словам Л. Н. Толстого, « нечто совершенно оригинальное», не имеющее аналогов – масштабное лиро – эпическое произведение. Можно смело утверждать – на державинскую государственность была наложена лирическая струна Пушкина.
Эпическое начало в нем представлено похождениями Чичикова и связано с сюжетом. Лирическое начало, присутствие которого становится все более и более значимым по мере развертывания событий, выражено в лирических авторских отступлениях, когда мысль писателя уходит далеко от событий с жизни главного героя и охватывает весь предмет изображения, «всю Русь», и даже выходит на общечеловеческий уровень. И тогда «Мертвые души» действительно становится поэмой, посвященной пути автора в этом мире, процессу познавания им действительности и человеческой души.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу