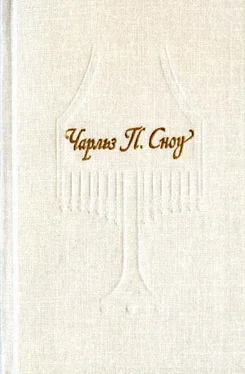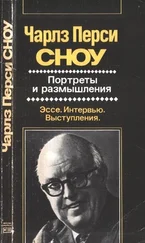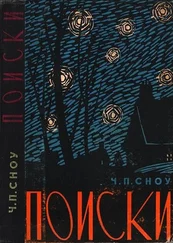Однажды утром — это было в воскресенье — доктор Фрэнсис пробыл в маминой спальне дольше обычного. Тетя Милли, отец и я молча ждали его в гостиной.
Доктор Фрэнсис пришел на этот раз очень раню, чтобы успеть в церковь к началу службы. Когда он спустился в гостиную, церковный колокол уже гудел вовсю. Цилиндр доктора, в котором он ходил в церковь, — единственный цилиндр на весь приход, — лежал на столе в гостиной, и я было подумал, что доктор лишь зашел за ним. Но он опустился на стул возле стола и своими белыми, пухлыми пальцами принялся разглаживать скатерть. Лицо у него было розовое, даже лысина и та была розовая. Однако лицо это хранило сейчас повелительно-суровое и немного обиженное выражение.
— Мистер Элиот, я должен кое-что вам сказать, — заговорил он громким, хрипловатым голосом.
— Я слушаю, доктор, — отозвался отец.
— Боюсь, что она уже не встанет, — сказал доктор Фрэнсис.
Как раз в эту минуту церковный колокол перестал звонить, и в комнате воцарилась такая тишина, что у всех создалось впечатление, будто стало как-то темнее.
— Правда, доктор? — растерянно произнес отец.
Доктор Фрэнсис сосредоточенно нахмурился и кивнул.
— А сколько она еще протянет? — спросила тетя Милли подавленным тоном, который у любого другого человека можно было бы назвать энергичным.
— Этого, миссис Риддингтон, я не могу сказать, — ответил доктор Фрэнсис. — Она легко не сдастся. Да, она будет бороться до последнего вздоха.
— Но как долго, по-вашему? — настаивала тетя Милли.
— Не думаю, чтоб речь шла о неделях, — медленно проговорил доктор Фрэнсис. — Но ради нее надо пожелать, чтоб это длилось недолго.
— А она знает? — воскликнул я.
— Да, Льюис, знает. — Со мной доктор говорил мягче, чем с тетей Милли: казалось, он постарался забыть о чувстве обиды, о горечи понесенного в борьбе с болезнью поражения.
— Вы сказали ей сегодня утром?
— Да. Она просила меня сказать правду. У нее мужественная душа. Другим я обычно ничего не говорю, а твоей матери решил сказать.
— И как она это приняла? — спросил я, стараясь говорить спокойно.
— Хотел бы я так принять, — признался доктор Фрэнсис. — Если, конечно, со мной случится такое.
Перчатки доктора Фрэнсиса лежали в цилиндре. Сейчас он вынул их и начал медленно натягивать, сначала на левую руку, тщательно разглаживая каждую складочку.
— Она просила меня передать, — нарочито небрежным тоном заметил он, обращаясь к отцу, — что хотела бы сначала видеть Льюиса.
Отец покорно кивнул.
— На твоем месте я подождал бы несколько минут, — посоветовал мне доктор Фрэнсис. — Ей надо дать время приготовиться к встрече с тобой. Она ведь не любит, чтоб ее видели расстроенной, правда?
Он думал в эту минуту не только о маме, но и обо мне. А я не мог слова вымолвить. Доктор пытливо посмотрел на меня и почмокал в знак сочувствия. Затем, натянув вторую перчатку, сказал, что хоть и поздно, но он все же хочет сходить в церковь — как раз успеет к первому чтению библии. Он простился с тетей Милли, простился с отцом, а меня обнял за плечи. Минуту спустя, поблескивая цилиндром, неся очень прямо свое пухлое, словно набитое ватой, тело, он быстрым, решительным шагом просеменил мимо нашего окна.
— Ну, когда это случится, придется вам съехать отсюда, — заметила тетя Милли.
— Да, Милли, очевидно, придется, — согласился отец.
— Переедете ко мне. С семьей в три человека я уж как-нибудь справлюсь.
— Ты очень добра, Милли, право!
— Только вам придется поселиться в одной комнате. М-да, надо будет произвести перестановку, — добавила тетя Милли, довольная тем, что у нее появилось какое-то дело.
Часы на камине пробили полчаса, но на сей раз отец не произнес своей сакраментальной фразы. Он сказал вместо этого:
— Лина-не любила их, правда? Все говорила: «Будь они прокляты, эти часы! Будь они прокляты, Берти!» Так и говорила: «Будь они прокляты!» Мне они всегда нравились, а ей — никогда.
Глава 9
У ПОСТЕЛИ УМИРАЮЩЕЙ
Мама теперь все время лежала на высоко взбитых подушках, независимо от того, спала она или бодрствовала, ибо так ей легче дышалось, а потому, когда в то воскресное утро я пододвинул к ее постели стул и сел, глаза наши оказались почти на одном уровне.
Глаза у мамы блестели, и белки были очень белые. Лицо же приобрело желтовато-восковой оттенок, и на щеках выступили жилки, как это иной раз бывает на загрубелых от ветра лицах. Мама с высокомерно-иронической усмешкой посмотрела на меня — такую усмешку часто вызывало у нее какое-нибудь неприятное известие.
Читать дальше