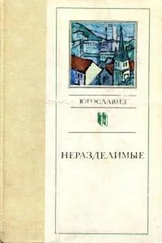Сказания про исполинское око и про исполинскую руку под Синей Скалой как моросящий дождь тяжестью накладывались на веки. Один за другим вспоминали подобные чудеса, про которые слышали или пережили сами. Кто рассказывал, кто хихикал, иные шептались. К ночи дремь даже рассеялась: сидя вокруг костра, мы ждали истории не простой, а способной нас взволновать и открыть тайны жизни и мира, пребывающего по ту сторону ежедневия. Оказалось, что, кроме неутомимого Кип-рияна, другого, сочинителя историй не было. Всех снова стала забирать дремота. Папакакас нарядил стражу, и мы улеглись кто где, на листьях и на голой земле, прикрывшись кто чем мог.
Вечность, проходящая сквозь нас неисследимо, становится раздробленной и бесцельной. То, что в ней могло бы сделаться блеском, уже пепел, ни под золой, ни поверху нет ничего – ни знамения, ни крика. Сознание пытается выдраться из этой смуты и воротить к себе жизнь со всем ее беспорядком. Сознание хоть и не вечно, а все же не смерть. Еще нет. Оно выбирается из пузырьков льда, рвется к жизни в жизни.
Я лежу. Среди людей и наедине с собой, напластываюсь поверху туманной бесформенностью, а в самом низу у костра моя скорлупка, увитая неясными снами, по которым проходят, прозрачные и немые, ни живые, ни мертвые, мои знакомцы: отец Прохор, Теофан, Русиян, Симонида, за ними появляются и тоже исчезают Ион, Катина, Пребонд Биж, потом кое-кто из мертвых: Стоимир, Ганимед, кузнец Боян, матушка моя Долгая Руса. Такие, какими я знал их. И все же другие. Бесплотные и сквозистые до последней нити крови. Мягкие и окоченелые. С едва различимыми лицами. Неслышные и чужие. Призрачные. Не страшусь их и не удивляюсь, что они – лиловатая мгла в лиловом. Меня разбирает любопытство. Хочу что-то сказать, но не знаю что и молчу. Немо слежу за ними неким внутренним оком. Не приветствую их, не прощаюсь. Они обходят меня. Их тени трепещут среди теней буков и грабов. Расплываются в прихлынувшем лунном свете, и свет расплывается тоже, собираясь внутри меня мраком с редкой серебряной пылью.
Меня пробудили крики, вырвали из земли – я уже запустил в нее корни. Мы вскакивали один за другим. Стражник подвел к встрепанному Папакакасу Вецко, нашего гонца в монастырь Святого Никиты, за ним покорно тащился мул. Известие, мной предугаданное, не удивляло: отец Прохор и Теофан благодарствуют, что про них вспомнили, однако останутся на своем месте – алтарь, коему они предстоят, ни пред царем, ни пред разбойником не покидается. Вецко мог бы теперь устроиться возле погасшего костра да поспать, а он, съежившийся от усталости, стоял в нерешительности. Сгорбился, переминался с ноги на ногу. Папакакас подошел совсем близко. Спросил, что еще, и ждал ответа, вместе с ним ждали мы, Вецко, задрожав, шепнул вроде бы имя, только я не расслышал – чье.
Ночь проходит и пройдет, холодный месяц в вышине словно бы подгрызла внезапная теплота, как дыхание обнюхавшего его зверя, или ветер, непостижимым способом добравшийся до него из своей норы, где обитает тайный огонь и вечность. Воздух подрагивает. То ли от звука предутреннего пробуждения, то ли от слабой волны света, полегоньку завладевающего землей и затопляющего все на ней. Вдалеке на небе открывается розоватая рана, солнце снизу уже изготовилось зализать ее горячим языком, залечить. Коротко вздрагивают ветви буков и грабов, словно присоединяясь к перекликам рябчиков. Мрак собирается в полосы, в толпы вытянутых теней, людей и деревьев. Где-то по-песьи подал голос дикий козел.
Вецко повторяет произнесенное имя, но и теперь неясное. «Русиян? – переспрашивает Папакакас, и голос у него не удивленный, а сонный. – Что он? Ты его повстречал?»
«Он здесь. Хочет с тобой увидеться».
Мы разом вскочили на ноги, среди первых Парамон и Богдан, заспанные и злые, злее некуда: причинитель их бед очутился совсем близко от них. Беззубый Парамон готов был деснами – так ненавидел – ободрать до костей бывшего своего властелина, а тот выходил из древесной тени и направлялся к нам, безоружный, с непокрытой головой, похожий на человека, заплутавшего в незнакомой местности, который теперь идет себе наобум, скорее лениво, чем осторожно. Богдан нагнулся и поднял с земли копье, принадлежавшее кому-то из убитых нами бижанчан, украшенное в пяди от острия лисьим хвостом, знаком Пребондовой десятки. Вецко нерешительно, с мольбой протянул к нему руки, при слабом восходном свете лицо его казалось еще более исхудалым, усохшим, постаревшим, в глазах, словно и не молодых, был страх.
Читать дальше