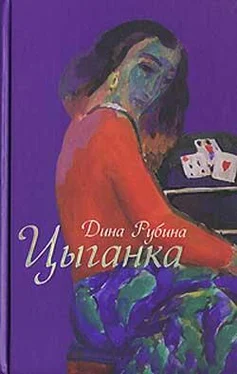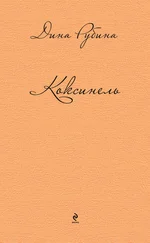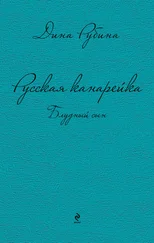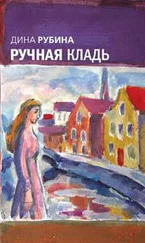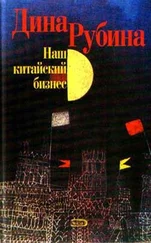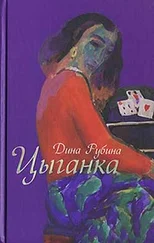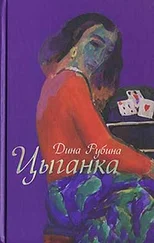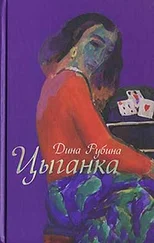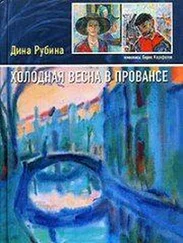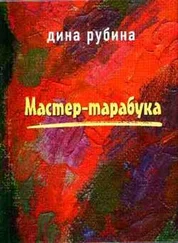Дина Рубина - Фарфоровые затеи
Здесь есть возможность читать онлайн «Дина Рубина - Фарфоровые затеи» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Фарфоровые затеи
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Фарфоровые затеи: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Фарфоровые затеи»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Фарфоровые затеи — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Фарфоровые затеи», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Я даже представить себе не могу.
– А ты вот представь. Просто жили так, и все. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило…
– Евгения Леонидовна, а так называемая «оттепель», она каким-то образом вас затронула? В литературном мире она многое перевернула. А вот в мире вашем, художественном, в фарфоровом мире, произошло что-то существенное?
– Наш «художественный» и наш «фарфоровый» – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех МОСХовских выставок, законов, споров, цеховых благ всяческих. И дрязг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться – мы выставлялись, конечно. Однако были наособицу, самостоятельные, ни на что не претендовали. Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от МОСХа или нет, этого никто не знал… А Турандот, в общем, я слепила и получилось красиво.
– Еще бы! Знаменитый ваш цикл, четыре работы. Я даже эскизы видела в каком-то журнале.
– И в МОСХе, когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую и я сама не ожидала, – решили эту работу подарить театру – от Союза Художников. Уже я тут как бы и ни при чем. И вот начался очередной спектакль «Принцесса Турандот», пошел занавес – на сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Ну, словом, мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя… Сперва ей специально саркофаг сделали, на колесиках, в нем она паслась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Местечкин. Я, помню, спрашиваю его: «Почему на колесиках? Это же слишком покато? » А он мне, милый человек, отвечает: «Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли… Тут у нас, бывает, и гроб стоит». И умолк. Через десять дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе… Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековечной женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже первое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет: «Ну, что ж ты не идешь?» – а он сидит за столом мертвый.
А через десять дней после него умер мой муж…
пауза
– Вот как…
– Вот как… Ну… так это, значит, первая моя была театральная работа. Потом еще были другие, много, но гораздо слабее.
– Это вы себя судите строго, как художник.
– А как еще я себя должна судить?
– А после «Турандот»?..
– А сразу после Чеховский музей заказал мне целых десять работ. Ну, Чехова упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был такой человек сладостный. Почти слепой.
– Директор чего?
– Чеховского музея в Мелихово.
– Евгения Леонидовна, а вы знали Книппер-Чехову?
– Видела один раз живьем. А за глаза не любила всю жизнь.
– Почему?
– Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнущая сигарами и вином, развязная, веселая, бесцеремонная. Сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его! Ну я, как могла, все же свела с ней счеты, все-таки постаралась.
– Каким же это образом?
– Я делала композицию «Вишневый сад», и там она такая… рыдает. Работа детальная, условия жесточайшие: вот «Вишневый сад», будьте добры, сделать нам две большие группы многофигурные, и чтоб точно те исполнители, которые играли в Ялте на премьере, да с портретным сходством, и все детали костюмов и декораций извольте соблюсти. Ну где это мне было разыскать? А все-таки удалось каким-то чудом.
– В архивах?
– Нет, просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии. Так Книппер… Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями…
– Она ведь Раневскую играла в «Вишневом саде»?
– И потом еще в «Трех сестрах» я тоже, как могла, сделала ее не очень обворожительной.
– Жестокая месть художника. Я, знаете, о чем хотела вас спросить… Вот художник-живописец: пошел, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал, что хотел.
– Вот именно: ура, все кончено. А у нас все только начинается…
– А с чего начинается?
– Во-первых, дурынду эту надо на завод доставить. Хорошо, когда уже появилась машина, или такси… А так ведь это не просто. Она или глиняная, или пластилиновая. Это все весит. Ну ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс – ее режут на куски; потом ее обратно соберут, но пока что зрелище – груда кусков из того, над чем ты тряслась, как над младенцем. Потом ее формовщики форматируют. Потом садятся автор с помощником и монтируют эти куски как было. Монтируют, зачищают. Вот отсюда – спасибо партии за это – силикоз у меня. Да и у всех на заводе. Раз в году проверка: приезжает автобус с оборудованием, выстраивается очередь. Входишь в этот сумрак: повернись вправо, повернись влево, повернись спиной. Силикоз. Следующий! Ну, ладно. Потом, когда она уже зачищена, ее надо окунуть в глазурь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Фарфоровые затеи»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Фарфоровые затеи» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Фарфоровые затеи» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.