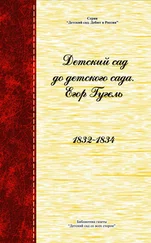Вероника Кунгурцева - Сад
Здесь есть возможность читать онлайн «Вероника Кунгурцева - Сад» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1994, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Сад
- Автор:
- Жанр:
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Сад: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Сад»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Сад — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Сад», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— У вас… — Семен сдавленно засмеялся, — …у вас… глаза одина… одинаковые.
— Да! — почти выкрикнул Романыч. — У нас одинаковые глаза. — И опять он глядел на Надю: — Наденька, брось ты его… Поедем со мной. Разве он поэт? Ты его больше слушай. Поэт… Дерьмо он, а не поэт.
— Романыч, ты пьян, ты пьян, Романыч, перестань.
— Он тебе свои стихи читал? Вот видишь… Не верь ты ему, ни на грош не верь. Ничему не верь: у него ведь слова одни, всегда только слова. Если всех словоблудов величать поэтами… А мне товарищ один написал: живи с надеждой. С Надеждой, Наденька… Это перст судьбы. Поедем со мной…
— Романыч, я ведь тебя очень люблю…
— Значит, не пое…
— Уходи! — Семен вскочил. — Уходи, Романыч, это невыносимо. Ты кого хочешь выведешь из себя… Уходи.
— Да? — Пьеро на потолке задумался, качнулся к выходу и исчез.
Семен и Надя молчали. Не глядели друг на друга. Ветка скрежетала о крышу.
— Не верю я друзьям, — говорил он на следующий день. — Никому больше не верю. Нет у меня друзей: один отнял у меня любимую женщину, другой пытался… Никого у меня нет, Наденька, кроме тебя. Не бросай, не покидай меня.
— Смешной, — говорила Надя, прижимая к себе его голову.
— Я сомневаюсь, Надя. Я боюсь, что… Романыч прав и я дерьмовый поэт.
— Не верь, не верь ты ему…
— А он талантлив, Господи, как он талантлив, если бы ты только знала…
Но все улеглось, и дни потянулись серой вереницей. Опять он сидел и писал, опять Надя вязала, опять была жареная картошка. Те несколько капель сомнения, которые еще оставались в ней, исчезли после этого второго приезда Романыча. Семен любит ее. Если и Романыч полюбил ее… то, значит, Семен в самом деле любит. Все хорошо. Все ясно.
Дни становились все жарче. Он опять звал ее замуж, она опять увертывалась от ответа. От шляпного узора рябило в глазах, от постного масла у нее была изжога, ночью она плескалась в его руках ленивой рыбой.
— А ты… Хельге изменял, да? Любил и изменял?
Он, задумавшийся о чем-то своем, вернулся сюда, к ней, сказал:
— Ты что… дневник мой читала?
— Я? — Надя была оскорблена. — Ты сам говорил, сам когда-то говорил…
— А?.. Там… другое было, там все было по-другому. И прекрати ты, наконец, откапывать трупы. Не понимаю, зачем тебе это надо.
…Надя лежала и глядела в пейзаж на стене: волшебная дорога плыла к холмам. Хотелось туда. Она устала быть здесь. Хотелось чего-то. Чего? Она не знала. Раньше думалось — любви.
Ее дорога упиралась в его калитку.
Его не было дома. Опять уехал в город, говорить с Москвой. Вроде что-то определилось с его стихами — обещали напечатать. А он все не показывал ей свои стихи. Почему?
Надя подошла к его столу — над ним он нависал, как орлица над гнездом с орлятами.
Выдвинула ящик стола — там, на дне, была когда-то фотография Хельги. Теперь ее не было. Сверху лежала большая тетрадь в коричневом переплете. Надя задумалась. Никогда она не трогала его бумаг. Но почему он не хочет показать ей свои стихи? Это же не тайна — он же печатать их будет. Или… он думает, она не поймет?.. Надя подбежала к двери, выглянула на дорогу и вернулась к столу. И открыла тетрадь. Веером взметнулись страницы, глаза ее поймали: «Хельга для меня…» — она захлопнула тетрадь. Дневник?!
Уйти, немедленно уйти. Закрыть дверь на ключ и сидеть дома. «Хельга для меня…» От калитки она вернулась. Он решил вчера, что она читала его дневник… Раз он думает, что она способна на такое, то она в самом деле способна.
Надя открыла тетрадь, лихорадочно пролистнула страницы — он вел дневник время от времени, здесь были еще школьные записи. Прошелестели десять лет. Февраль нынешнего года.
Он писал о литературе, все о литературе, вот — о том, что не выдержал, уехал из Москвы, февраль кончается, — о ней, Наде, ни слова.
Март, восьмое число.
Он писал, что решился. Пусть ей будет приятно, вдруг ей некому подарить цветы… Надя думала, он пишет о ней, и вдруг: Лева ведь часто уезжает. А он, Семен, всегда дарил ей цветы, тем более в праздники. Он позвонил Романычу, Романыч согласился; он истратил последнюю десятку, купил красные тюльпаны — она любила их больше других цветов, это были их цветы, цветы их любви. Поехал в аэропорт и послал ей цветы самолетом. И несколько дней думал о том, как Романыч вручил ей эти цветы, не сказав ничего, как она их увидела — и все поняла.
Надя откинулась на стуле. Леденящее спокойствие сковало ее. Она вспомнила крашеные цветы, которые он подарил в тот день ей (наверное, мелочишка от десятки осталась), и зажмурилась, сгорая от стыда и унижения. Она ненавидела его лютой ненавистью. Для нее все то, о чем она прочла, происходило сию минуту, она забыла о времени. Как он лгал, как он лгал… А она-то, дура, верила ему. «У него нет ни слова правды», — вспомнила Романыча. И этот еще… Предатель. Она забыла, что Романыч и не знал ее тогда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Сад»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Сад» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Сад» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.






![Вероника Кунгурцева - Дольмен [litres]](/books/416927/veronika-kungurceva-dolmen-litres-thumb.webp)