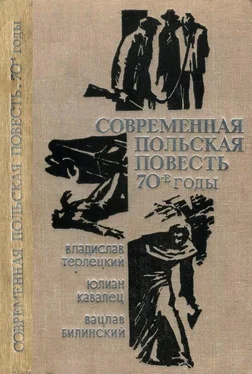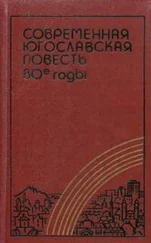Сначала казалось, что они не будут долго рассуждать о болях, не испытанных ими, о которых они слышали только от стариков, и разговор кончится на заявлении медика-аналитика.
Но не так-то легко остановиться, и до глупости глубокомысленная болтовня на тему боли перешла в интересный и волнующий разговор, и дошло даже до того, что студенты, собравшиеся на эту вечеринку, поделились на три воюющие между собой группы, каждая из которых выбрала себе, как бы сказать, свою боль и твердо стояла на своем, утверждая, что ее боль самая страшная.
Приятель, так, забавы ради, отказавшийся от обычного стула и усевшийся на корзинку, полную мусора, если не ошибаюсь, филолог-классик, припомнил, что ему рассказывал его дядя, и похвалялся, будто знает самую страшную боль; он утверждал, что к этой боли его дядю привело милое, ободряющее предложение — ручки на стол; а потом — подвинуть ручки дальше, дальше, к самому краю стола так, чтобы ладонь лежала на столе, а пальчики свисали вниз; потом распоряжение, адресованное уже не дяде филолога, — спичечки, остругать спичечки, спиртик, чтобы смочить спичечки, все должно быть гигиенично, чтобы не было заражения; а потом дяде — может, теперь у тебя ротик откроется и ты защебечешь; а потом — теперь будем загонять спичечки под ноготки; и опять уменьшительно-ласково — щебечи, щебечи; а потом крик и безрезультатные попытки выдернуть руки, прикрепленные специально для этого изготовленными железными скобами, и визг, стопы, слюна и крик, как говорят старики, неизвестно откуда берущийся в таких обстоятельствах, но обязательный — мама, мама, мама, ма… а потом холодная вода на бледное лицо бесчувственного дяди, а потом, когда вернулось сознание, — теперь будем зажигать спичечки; и вдобавок тихо — может, теперь прощебечешь, что знаешь; а потом дядин крик, такой крик, который вознесся выше пирамиды из тысячи готических костелов; и холодная вода на бледное лицо, и снова холодная вода…
У моего дяди — закончил филолог — на концах пальцев красные набалдашнички, а сами пальцы — как бы барабанные палочки.
Кто-то крикнул — будь проклят этот мир, и рюмки, задержавшиеся в воздухе на время рассказа о превращении дядиных пальцев в барабанные палочки, поплыли к губам и еще, и еще раз…
— Что за странный, что за дьявольски странный был мир…
Как я уже сказал, разговор о болях продолжался долго, после филолога-классика выступил чистый философ с длинным рассказом о величайшей, как он говорил, боли, притом боли дикой — поскольку она была платой за два мешка пшеницы; ну сколько — говорил приятель — мог собрать мой старик со своего клочка земли, как не два мешка, наверняка не больше; я этого не помню, меня просто тогда еще не было на свете, я знаю по рассказам матери; отец об этом не говорит, поскольку не верит, что кто-то может понять его арифметику, эти его удивительные весы, на которых он взвешивал свое согласие на смерть и два мешка пшеницы; на одной чаше согласие на погибель, а на другой два мешка пшеницы, и чаши на этих диковинных весах уравновешивались, и та чаша, на которую положено его согласие на смерть, вовсе не опускалась, и вовсе не взлетали вверх те два мешка пшеницы; а по здравому разумению они должны были быть легкими, как пух, и чаша, на которых они лежали, должна была взлететь вверх от тяжести чаши, на которой он уместил свое согласие на погибель; тем более что тогда те два мешка, заключенные в колосьях еще не скошенного хлеба, не были единственными мешками, ведь тогда уже была собрана рожь, да и большая часть пшеницы; это было так, словно у него была целая буханка хлеба, а ему хотелось еще ломоть, и за этот ломоть он готов был отдать все; и он действительно ни за какие сокровища не хотел расстаться с этим ломтем, и не помогли мольбы матери, валявшейся у него в ногах, он твердо держался за свою арифметику, которую можно назвать по-разному: и хитростью, и любовью, и ожесточенностью, и упрямством — но нельзя ее определить точно, ибо словами этого не объяснить; ее нельзя и понять, потому что это уже из области иррационального и не поддается никакому измерению, она рушит обычный порядок вещей и выворачивает наизнанку мысли и дела; и он пошел косить оставшийся хлеб, хотя на поле, оказавшееся во фронтовой полосе, падали снаряды, потому что это был день войны; и он косил, не обращая внимания на то, что время от времени на полях взрывались снаряды, а в воздухе рвалась шрапнель; и он скосил, и начал вязать снопы, и вот он уже у последнего снопа, и казалось, что он доберется до того ломтя хлеба и что не придется платить за него огромную цену, за которую можно купить весь хлеб на нолях нашей деревни да и других деревень; здраво, по-человечески рассуждая, ведь нет такого количества хлеба и таких драгоценностей, за которые можно было бы заплатить столь высокую цену, за которую купил мой отец ту «краюшку» хлеба; у последнего снопа, когда он уже наклонился и держал два конца перевясла и хотел стянуть сноп и завязать узел, в тот момент, когда он уже, собственно, мог сказать — слава богу, удалось, недалеко взорвался снаряд, и ему показалось…
Читать дальше