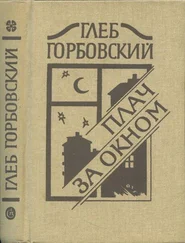— Да тебе-то чего заело?! Ну, обознался, померещилось мне!
— А то хотите — вернемся? Пусть его извлекут. Документы пусть предъявит.
— Своих забот… Погоняй, Григорьич!
* * *
В городок въезжали далеко за полдень.
Улицы городка после пожаров войны обозначались малозаметными землянками, кое-где выпускающими из себя дымок; иногда конура строения складывалась из обгоревших частей былого дома. Изредка, словно уцелевший зуб, торчал довоенный домик.
По деревянному, скороспелому мосту продребезжали на ту сторону речки, где в прежние времена — при Александре Невском и вплоть до сорок первого года — находился центр города.
— Куда мне вас, Александрович, к почте или еще куда?
— В крепость я, к Никанору. Значит, тут вот и сойду, на берегу. Спасибо за доставку.
— Какие там «спасиба»! Договоримся давай, когда вертаться будем. Вдвоем-то оно, сами знаете… Одно удовольствие.
— Назад? — дядя Саша погладил переносицу. — Назад мне, Лукьян Григорьевич, может, и не придется возвращаться. Я, Григорьич, за паспортом.
— В паспортный стол идете, только и всего. И чего вы такой пуганый? Вы лучше по делу обдумайте: как и что. Фотография на паспорт нужна? Нужна. Значит, на рынок, к Моисею. Ночевать-то где надумали?
— У Никанора.
— Ладно. Пусть так. А я в Дом крестьянина. Короче, давайте-ка мы с вами завтра на рынке сойдемся. В полдень. У Моисея-фотографа?
— У фотографа…
— Ну, так бывай, дорогой!
— Не поминай лихом, Григорьич… Прощай!
— Вот чудак человек… Зачем так сурьезно?
Чуть позже Валуев понял, что идет вверх по тропе. Туда, на холмы, к старой крепости. В ее глубине, за многослойными серыми стенами, пряталась низенькая белая церквушка: помещение, где в лихие годы, не исключая последней войны, отсиживалась небоеспособная часть населения городка. Заведовал всем этим богоугодным заведением деловой, на манер расторопного завхоза, поп Никанор.
5
Из низких, словно прорубленных в крепостной стене, ворот вышла горстка опрятно одетых людей. Человек восемь. Четыре строгие старушки. Несколько дедов в хромовых сапогах и дореволюционных фуражках черного сукна с плетеными шнурками над козырьком. Посмотрели все дружно на небо и, не найдя там ничего необычного, разошлись в разные стороны.
Возле ворот, в толще стены, пряталась за металлической решеткой сводчатая пещерка-часовенка. Подле богатой иконы с негасимой лампадой висела на металлических обручах железная кружка-копилка. Сюда и скользнул из-за деревьев никем не замеченный дядя Саша. Катыш хотел было проникнуть в часовенку следом, но у порога передумал: не полагалось ему туда заходить.
Перед уходом Валуева из Гнилиц тетка Фрося шепнула просьбу: опустить в кружку Николы Угодника трешницу. Но потому как дядя Саша денег своих еще не менял, не тратил, то и опустил в кружку всего лишь болтавшийся по дну махорочного кармана двугривенный.
«Была бы просьба исполнена… — подумал ворчливо. — Что трояк, что двугривенный — не разгуляешься на таки денежки… Да и вся эта вера в бога… Тут еще бабушка надвое гадала. Оно, конечно… Такое хозяйство: и земля, и небо со звездами. И вдруг — без хозяина? А вообще — не нашего ума дело».
В часы трезвые, жестокие, а порой и беспощадные, когда жизнь над дядей Сашей производила свои самые отчаянные опыты, обижался Валуев, что не только бога, но и просто справедливости в мире мало. И желание справедливости — это еще не справедливость.
Кто-то дважды похлопал дядю Сашу по плечу. Валуев испуганно обернулся. В глазах его продолжал светиться потрескивающий огонек лампады, а с земли к нему уже тянулся вставший на цыпочки черный человек. Очень маленький, но с бородкой и в темном одеянии мужчина.
— Отец Никанор!
— Эва кто… А я смотрю — мужик возле кружки задумался. Того гляжу, собачка знакомая сикает. Насовсем, что ли, в город перебрался, Алексаныч?
— Проездом. Ночевать пустите?
— Еще спрашивает! Да я тебе пол-литра поставлю, только переночуй. Уважь только. Потешь присутствием.
— Тоскуете, отец Никанор?
— Тоскую. Если бы не товарищ Кубышкин — съела бы меня тоска. С потрохами. А куда проездом, если не секрет?
— В органы иду, Никанор Никанорович, за новым паспортом.
— Значит, проездом к себе домой. В Гнилицы.
— Неизвестно. Не к теще на блины…
— Так ведь — не дойдешь… Сбежишь, как всегда.
— Нет. Чувствую — время подошло. Не сбегу. Будь что будет. Хоть смертная казнь!
— Ишь ты… Смертная казнь. Такое, брат, заслужить надо. Это и любой бы — раз! — и отмучился… Ни тебе о пище думать, ни тебе людей бояться… Полное отпущение. Раз! — и лети, птица божия, на все четыре.
Читать дальше