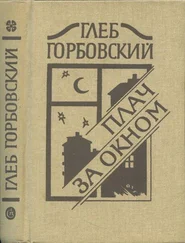Косоглазого сразу будто собака покусала бешеная. Как завопит! Да штыком своим — в грудь Иннокентию. Правда, замах у него не получился. Может, кончиком и уколол. И то вряд ли. Охранник кулачишко поднял. А тесак отбросил. Только кулачишко-то у него против Кешиного, как сморчок возле боровика: желтенький, морщенный… Иннокентий плечо подставил. А затем — снизу, с поклона — как вывернет малому тому — по зубам! И в клубок сцепились. Пылью мажутся… А немец доволен. Еще выше прыгает. И разнять дерущихся не позволяет: «К-к-карошо! — кричит. — Б-б-б-бокс! Б-бокс д-давай, махен!» И в боксерскую стойку сам становится. Азиата по плечу похлопал, Иннокентия ногой пнул. Вставайте, значит! И — чтобы на кулачках драться. Сынок-то мой с первого замаха как вмажет кривоногому… По зубам, благо они долгие и видно их хорошо. Зашипел, заплевался малаец. Опять они в пыль оба упали. Гляжу, полицай кусок кирпичины вывернул тайком и за спину прячет. Я как заору: «Сынок, берегись, убьет!» Кеша тут вроде как услыхал меня, отвлекся… А косоглазый и шарнул ему по затылку. Подумал и еще раз приложился. Тут, слышу, офицер выругался. И на сынка показывает: «Лазарет! Би-бистро!» И в дом ушел. А Иннокентия лагерники подхватили — унесли. Многие улыбаются: как же, в кои веки полицай по зубам получил… Плакал я за оградой, кричал, пока не прогнали. С тех пор и не слыхать про сыночка: что с ним? Убили, ранили? Или в заключение заточили? Раза три еще сходил я к тому лагерю, да все без пользы. А затем и лагерек переехал куда-то. Прихожу: бараков нет. Одна большая белая помойка на территории. Да еще дорожки песочные. И — чистота…
Шагая теперь по дороге к городу, Валуев отчетливо представил, что сынок его Кеша, убитый, лежит в земле. А земля — большая. И никогда, даже при помощи современной техники, никогда ему не отыскать той могилы. В тревоге дядя Саша остановился. Дорогу теперь обступал лес. Катыш вопросительно оттопырил ухо и, как бы невзначай, замолотил хвостом по голенищам сапог хозяина.
Запоздавшие с отлетом скворцы облепили усыпанную шишками поляну меж двух сосен. Птицы суетились, видимо сговариваясь, но уже не свистели по-летнему, с хулиганским потягом, а издавали все вместе какое-то, почти кошачье, мурлыканье…
Дядя Саша обратил внимание на скворцов. Улыбнулся одними глазами. Ощутил себя живым среди живых. И, наклонясь к Катышу, погладил его по спине. Катыш, не мигая, преданно смотрел на Валуева. Затем сорвался, заторопился вперед по тропе. Вскоре он опять остановился, как бы спрашивая: ну, что ты стоишь, большой человек? Двигайся давай! И Валуев, по-лошадиному тряхнув головой, трогается дальше. На нем, по уши нахлобученная, покачивается тяжелая коричневая кепка с большим козырьком-«аэродромом». На узких плечах, как на заборе, висит длиннополое черное пальто дореволюционного драпа с бархатным узеньким воротничком, сшитое вскоре после свадьбы. За плечами брезентовая котомка, содержимое которой, стянутое лямочным узлом, не превышает размера среднего мужского кулака.
Дорога, вильнув хвостом, выкатилась на чудесный, еще зеленый лужок, в центре которого, заросший осокой, таился ручей. Настоянный за лето на всевозможных травах, прогонял он сквозь полуголый лес свой золотисто-коричневый прохладный чаек. Рядом с убогим мостиком в четыре бревна дядя Саша обнаружил двухколесную телегу, по-местному — «беду». Представляла она собой две огромные оглобли, соединенные деревянной же осью, на которой вращались дико стенавших два деревянных колеса.
Худой старый конь жадно вгрызался в еще сочный, заливной дерн. Чуть в стороне, там, где трава была погуще и поцелей, стоял низкорослый широкоплечий мужик в ватнике и сплющенной пограничной фуражке с ярким зеленым верхом. На руку мужика была намотана веревка. На веревке крепилась белоногая, с кудрявым безрогим лбом телка.
— Здравствуй, Лукьян! Никак скотину пасешь?
— Рад видеть Александра Александровича! Сейчас мигом запрягу, и садитесь, если в город. Вдвоем хорошо… А я вот… телку кормил.
— Далеко ты ее, Григорьич, на кормежку вывозишь.
— Если бы на кормежку… На мясо я ее вывожу. На колбасу да стюдень. Дурочку… Вот едем, глядим — лужок мокрый. Пусть, думаю, пожует напоследок.
Лукьян Григорьевич потянул отсыревшую веревку. Телка голову от травы подняла. Внимательно посмотрела на хозяина. Тогда Лукьян сам пошел к ней, и сразу объяснилась шустрая подвижность его головы и тугая скованность туловища: у Лукьяна Светлицына не было ноги. Заменяла ее деревяшка, похожая на большую перевернутую бутыль.
Читать дальше