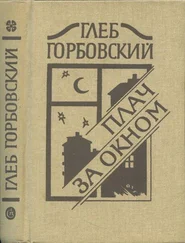Мужчина этот сумбурный, как и до него Зойка, угрожал, что непременно уедет — куда-то… В его напарнике я не сразу узнал — кого бы вы думали — «графа» Салтыкова!
— Да понял я тебя, Федя, понял! Не надрывайся… Диктором тебе на радио… Вместо Левитана.
— Я, Юрик, не могу, когда на меня в семье внимания не обращают! Любишь, за человека считаешь — будь любезен: обращай внимание! Для чего я тогда родился под Весами — это созвездие такое, — если жена ко мне через год привыкает, как к ночным тапочкам? Будешь смотреть на меня, как на комод, — уеду! Уеду, и все! Куда глаза глядят! И уехал… Я те привыкну, индюшка нерусская! Она у меня мордовка… Скучно тебе со мной — так и скажи! Мигом развеселю! Ты, говорит, Федя, все о мировых «промблемах»! А мне ласки хочется. «Ласки» ей хочется! А меня, может, от этой ласки, как карман, выворачивает! Тьфу! Я человек, Юра. Для меня многое интерес в жизни представляет. И космос, и йоги, и вопче — смысл жизни хочу выяснить. Что зло, что добро? А для нее всегда два бога: аванс да получка, грызи она ногти!
Марта на моем плече давно уже проснулась, разбуженная неуемным Федей. Меня подмывало вступить с ним в дискуссию, но я понимал, чем рискую. Таких, как Федя, ораторов только тронь: до Сахалина будут преследовать, пока не догонят и свою правоту не докажут… «Вот уеду!» И почему это среди нас, русских, чуть что — сразу: уеду! Жена осточертела — уеду; в должности понизили — уеду; погода испортилась — туда же: уехать грозится человек…
В зале вдруг сделалось тихо. Замолчал, заткнулся Федя. И тут стало слышно, как кто-то тоненько, жалобно поскуливал… От перрона в нашу сторону зала вертлявый Усыскин с портфелем, этот добровольный общественник, и рядовой Конопелькин вели под руки дряхлую бабушку, то ли тихонько поющую, то ли плачущую.
Старая женщина одета была в черную плюшевую жакетку, такое деревенское полупальто. На голове, как листьев на капусте, наверчено множество платков. На ногах — валенки с галошами. Бабушка шла, высоко подняв голову, как слепая. Лицо ее, морщинистое и темное, почти деревянное, чему-то беспрерывно улыбалось.
Старуху посадили рядом с Федей, так как Салтыков при приближении Конопелькина со скучающим видом подался прочь…
Усыскин, не выпуская из рук портфеля, вращался вокруг бабушки. Потом, когда она все так же — с высоко поднятой головой и улыбкой — села, начал предлагать ей какие-то пирожки и тут же задавать бесконечные вопросы, на которые старая женщина не отвечала вовсе, хотя пирожок машинально взяла и принялась сосать, видимо не надеясь разжевать его за полным отсутствием зубов.
— Послушайте, мамаша! — кричал Усыскин старухе в платок, надеясь попасть в ухо. — По какому адресу приехали?! Есть у вас адрес, бумажка? Есть или нет?
Женщина молчала, улыбаясь. Она, похоже, не слышала ничего. Или же не понимала. Тоненько скулила, глядя ввысь. И только.
— Откуда приехали?! Откуда?! — вплотную приблизил к ней свое лицо Усыскин. Из правого глаза бабушки выпала бусинкой мутная слеза и, не оставив на рифленой щеке следа, исчезла.
— Чего ж вы на нее кричите! — загремел вдруг на Усыскина Федя голосистый. — Не в себе бабушка, или вам непонятно, товарищ? Работник милиции молчит, — кивнул Федя на смущенного Конопелькина, — а гражданское лицо разоряется!
Конопелькин виновато поскоблил себе пальцем лоб. Повернулся к нам с Мартой. И как старым знакомым поведал:
— С поезда ссадили… Проводница не помнит, на какой станции в Сибири вошла бабушка. Тогда дежурила напарница, которая теперь уже домой убежала. Сменилась. Поезд на уборку подали. В тупик. А бабушка сидит. На вопросы не отвечает. Больная бабушка… Документов и вещей никаких. Пойду к начальству. Отвезут ее в дом престарелых.
— Вот видите, как просто: в дом престарелых… — подсел к нам Усыскин. — Женщина, матерь человеческая! Никому больше не нужна. Кроме милиции… Расстрелять ее сыновей! И дочерей! За такое к матери отношение…
— И чего шумит, портфель?! — возмутился опять громогласный Федя. — Может, ее детки уже расстрелянные. На войне фашистами! Может, она в единственном числе! И никаких у нее деток в помине нет!
— А внуки?! — не сдавался Усыскин. — А родные-близкие?! Соседи, знакомые?! Да это что же такое получается? Да у нас в свое время уголовники и те пуще всего старуху мать уважали… А мы где с вами живем?..
— На вокзале мы живем, дядя! — заглушил Усыскина Федя.
— Вот и именно, что на вокзале! Каждый в свою сторону, своим маршрутом.
Читать дальше