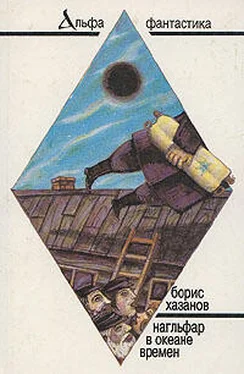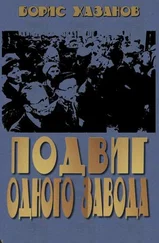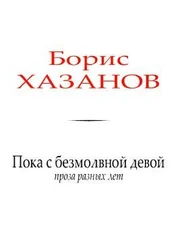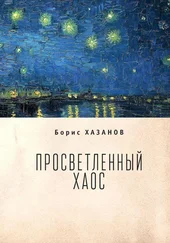60. Вторая версия легенды о Вечном Жиде
Предание, разные версии которого зафиксированы в различные времена и фактически представляют собой эпизоды одного и того же эпоса, связывает судьбу Агасфера с участью основателя христианства, и в этом, по-видимому, состоит тайный смысл всего рассказа: легенда о Вечном Жиде заключает в себе одновременно осуждение и прославление.
Вместе с тем она как будто намекает на обоюдный характер этой связи, на какую-то темную зависимость Того, кто приговорил злополучного старца к тягостному бессмертию, от самого этого старца, от Вечного Жида, чье имя разные источники передают по-разному: одни называют его Агасфером, другие Бутадеусом и так далее. Евангелист Матфей даже дает понять, что таких бессмертных свидетелей первого пришествия Христа было несколько. Достойно удивления, что из всех народов и стран, воспринявших христианство (и, следовательно, антипатию к евреям), Россия оставалась единственной, откуда не поступало известий о страннике; наша хроника восполняет этот пробел.
Ниже следует краткий пересказ латинской рукописи, озаглавленной «Правдивое известие о Картафиле» (еще одно имя). Интересующиеся могут познакомиться с ней в «Собрании палимпсестов и рукописей монастыря св. Панкраца в Верхнем Энгадине»; согласно этой версии, в 1533 году легендарный скиталец посетил знаменитого Аг-риппу Неттесгеймского.
Сперва (в этом сходны все варианты легенды) хозяин принимает его за обыкновенного бродягу. Но тот указывает на старинную картину, висящую над дверью: на картине изображен холм с тремя виселицами и в толпе зрителей стоит человек, как две капли воды похожий на гостя. Далее старец рассказывает Агриппе свою историю. Эта история более или менее совпадает с канонической версией, если слово «канонический» уместно в таком контексте. Он действительно прогнал несчастного галилеянина от своего крыльца, когда тот попросил помочь ему нести крест. Вслед за тем произошло нечто необъяснимое. Движимый любопытством, Картафил пошел за толпой, а когда все кончилось, не сумел отыскать дорогу домой в городе, который знал как свои пять пальцев, «et adhuc pagor» («до сих пор так и хожу»).
После чего у них начинается разговор о бессмертии. Ученый говорит, что отсутствие смерти должно предполагать и отсутствие рождения: не умирает тот, кто никогда не рождался, то есть тот, кто не сотворен. Не сотворен же единый Бог. В этом, по его мнению, состоит слабое место в христианском учении о бессмертной душе. «Осмелюсь напомнить, — прерывает Агриппу странник, — что я не христианин. Хочешь ли ты сказать, что мое бессмертие не настоящее, что и я когда-нибудь умру?» На это Агриппа отвечает, что, если бы Картафил был в самом деле бессмертен, это значило бы, что для него не существует времени, ergo, он не обладал бы никакой памятью о прошлом. Для него не должно было бы существовать ни прошлого, ни настоящего, и он жил бы как во сне. «В этом я усматриваю, — говорит Агриппа, — еще одну неувязку в нашем учении о Боге, точнее, о взаимоотношениях Бога и человеческой истории. Вечность Бога имплицирует беспамятство».
«Оставь своего Бога в покое! Ты не ответил. Я когда-нибудь умру?»
«Да, — говорит Агриппа, — ты умрешь».
И далее он объясняет, что это случится после того, как с Агасфера будет снято проклятье. Но когда же оно будет снято? «Как только рухнет тот, кто обрек тебя на скитания».
Этот ответ не удовлетворяет гостя. Он не верит обещаниям. Нет, говорит он, скорее погибнут все царства на земле и сравняются с землею все города, чем рухнет ваш пророк. Об этом позаботились его фанатичные приверженцы, тогда, в Иерусалиме. Они подкупили стражу и ночью тайком похоронили его, чтобы потом рассказывать, будто он попрал смерть, воскреснув из мертвых. И, в сущности говоря, так оно и случилось. Они распространили слух о том, что римский наместник, повелевший казнить этого человека, был орудием высшей воли, и в каком-то смысле это тоже верно. Если бы этого галилеянина не распяли, он рано или поздно разоблачил бы сам себя, все увидели бы, что он ложный мессия, фальшивый пророк, каких было немало. А казнь превратила его в мученика, в святого, наконец, в Сына Божьего. Поди проверь!
Эта богохульная речь, по-видимому, не слишком возмущает Агриппу Неттесгеймского — может быть, потому, что он сам наклонен к ереси. Он сухо замечает, что если Картафил прав, то лишь в одном: после того как Иисус умер, он уже не может умереть во второй раз. В этом смысле смерть и бессмертие совпадают. Но в конце концов рухнет и он.
Читать дальше