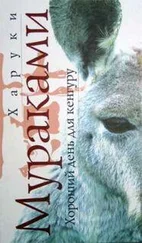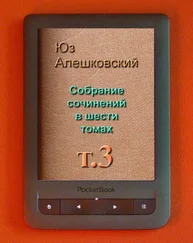— Может быть, имеете, Иосиф Виссарионович, проникновение в Африку? Поближе к антилопе-гну.
— Ты, Никита, всегда был дураком, но делаешь большие успехи и, следовательно, становишься идиотом (бурный хохот). Думать надо не об антилопах, а об антисоветских анекдотах, которые гуляют по руководимому тобой объекту, по Москве, Клим, куда я гну?
— Водородная бомба, Иосиф, будет к твоему семидесятилетию.
— Посмотрим, посмотрим. А ты, Шверник, почему губы поджал? Давно орденов никому не вручал? Скучно стало? Я тебе подыщу другую работу! В министерство мелиорации пойдешь! В твоей приемной — бардак! Плачут женщины и дети! А для тебя их слезы — вода? Вот и займешься мелиорацией. Президент сраный! (Бурный хохот.) Скажи им, Лаврентий, куда я гну. По пенсне вижу, что знаешь. Скажи, не бойся. — По-моему, ты гнешь к тому, чтобы отменить смертную казнь,сказал Берия. — Верно. Гну. Пляши, Никита, от радости. А мы похлопаем в ладоши. Шире круг!
Сплясал Никита, а сам про себя думает: «Ведь зверь, а не человек! Чистый зверь, и рожа дробью помята! Ну, погоди!» Сталин же пояснил, что он лично никогда не забывает о людях, и пора перестать их расстреливать.
— Расстрелять кого-либо вообще никогда не поздно. Но временно надо зто дело прекратить, потому что советские люди первыми в мире строят коммунизм и с непривычки не хотят работать. Опаздывают. Прогуливают. Воруют на всех участках всенародной стройки. Зачем же расстреливать рабочую силу? Разве у нас мало бывших военнопленных и предателей с оккупированных территорий. Вместо того, чтобы посылать в урановые рудники Стаханова, — сказал Сталин, — давайте, пошлем туда врага. Хватит крови. Давайте превратим кровь в труд. Потому что коммунизм — наше общее кровное дело! А урановая руда, новые ГЭС, заводы, шахты и бомбардировщики — это щит коммунизма. Пусть его куют наши враги. Хватит расстрелов. Нужно работать. Но не нужно путать расстрел и… пиф-паф. Ты меня понял, Лаврентий? Данайтв мечтать, товарищи, о тех временах, когда мы пересажаем всех врагов и начнем сажать деревья.
В общем, Коля, чего мне было беспокоиться, когда старая падла, член с 1905 года, требовала у мышки-судьи моего расстрела? Отменил Сталин расстрел — и все дела. Но эта ехидна возьми и заяви судье с некоторой даже угрозой:
— По-моему, вы запамятовали, что у нас процесс будущего. Партия, несомненно, рассматривает недавнюю отмену смертной казни как временную меру. В будущем, когда мы выполним народно-хозяйственные планы, расстрел непременно восстановят в правах. Ну что вы, Владлена Феликсовна! И не сомневайтесь, голубушка! На вас прямо лица нет. Давайте его расстреляем! Будущее надо делать сегодня!
— Раз такое колесо, можно и расстрелять. Это нас не лимитирует, — соглашается кирзовая харя.
В зале, Коля, мертвая тишина. Да и сам я, между нами, ни жив, ни мертв. Только частушка одна, от кулака в Казахстане я ее слышал, мельтешит и мельтешит в мозге не ко времени:
Ты не плачь, милая,
Не рыдай, Дурочка.
На расстрел меня ведет
Диктатурочка.
Вот, значит, какой оборот ты мне устроил, товарищ Кидалла! Ваша берет. Молчу. Не вертухаюсь. Ваша берет. Надеяться мне не на что. Не войдет в этот зал добрый доктор в белой шапочке и не скажет: Ну-с, больные, а теперь извольте разойтись по своим палатам, Харитон Устинович Йорк, он же Фан Фаныч, пожалте, на выписку. Хватит, батенька, играть в массовый психоз!»
Вот, значит, какой оборот, вот, значит, как кончается на глазах омерзительной шоблы моя жизнь. Кто бы думал, Коля, кто бы думал… А мышка бегает по совещательной комнате, переговаривается с кирзой и старухой. О чем — не слышно, потому что зал хлопает в ладоши и, не переставая, скандирует: «Рас-стре-лять! Рас-стре-лять!» Вот въехал электрокар, а на нем куча писем и телеграмм суду с личными и коллективными просьбами стереть меня с лица земли. Втолкнули тележку в совещаловку, смрадная старуха просьбы читает, плача от счастья и родства с народом, с партией, с комсомолом, с деятелями литературы и искусства. И кирза читает, и тычут они оба письмами в мышку. А я сижу и гадаю теперь уже о том, каким способом меня уделают, отравят или шмальнут? Думаю: менее хлопотно, если отравят. Затем решаю, что они же не сделают это из гуманных соображений, незаметно. Схавал миску перловки — и кранты. Они же обязательно напоследок вымотают тело и душу. Пускай Мучше шмаляют, как в старые добрые времена. Только интересно, сижу и соображаю, что я раньше почувствую, «пиф-паф» или удар в затылок? Соображаю и стараюсь убить в себе нерв жизни, чтобы ничего не вспоминать, не сопливиться, чтобы ни о чем не жалеть, никого не хаять и никого не любить. Скорей бы душа моя улетела из этого грязного, зловонного общежития… На третий день будет первая у нее остановка. Попьет душа чайку на полустанке с мягким бубликом, погрызет сахарную помадку. Никого, ни одной души, кроме моей, не будет в буфете. А на девятый день ты, моя милая, одиноко пообедаешь в холодном кабаке, но борщ будет горячим, и баранина с гречневой кашей, как при царе. Ешь, деточка, грейся, лететь тебе еще больше месяца, без единой остановки сорок ден, так что ешь и грейся, киселя попей, и закури на дорожку. А вот когда прилетишь на сороковой день, душа моя, неизвестно куда, тогда…..
Читать дальше