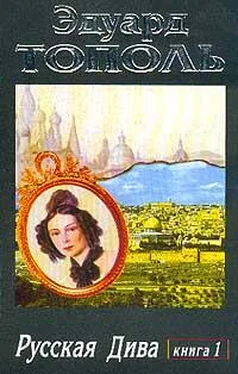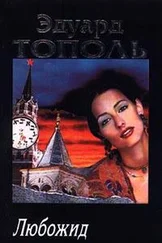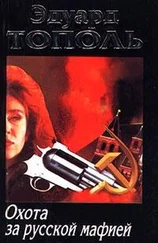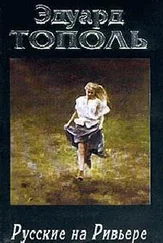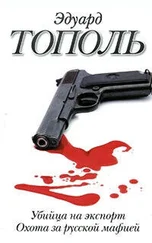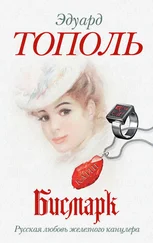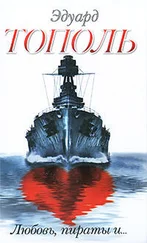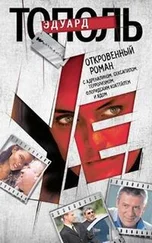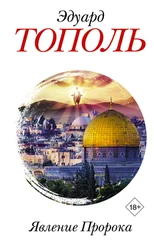Но отец остался непоколебим. Только потому, что из-за ее отъезда он мог потерять свою сытую гэбэшную должность, он не подписал ей родительское разрешение на выезд — прекрасно зная, что без этого разрешения ее не выпустят из СССР.
Судьба странным образом наказала его за это: он запил. То ли от нестерпимости сознания, что, вопреки всем его усилиям, его единственная дочь, которую он баловал все детство, и во второй раз вышла замуж за еврея, то ли от полного одиночества, но в 1972 году, сразу после смерти Аниной матери, отец запил — ожесточенно, глухо и с какой-то стервозной озлобленностью, как может запить только бывший зэк. И за три месяца потерял и пропил буквально все: работу, машину, партийный билет, мебель и даже портрет Сталина вмеcте со всеми своими фронтовыми орденами. Кроме, похоже, своего таланта, потому что именно таких спившихся гениев, которые могли собрать Т-34 из двух швейных машин, и приютил в своей «Яме» Иван Лопахин для непосильного заурядным механикам возрождения разбитых иномарок. Каждый день рано утром он сам, лично, на своем серо-мышином «фиате» приезжал за ее отцом на Песчаную улицу, привозил с собой бутылку водки, наливал ему стакан и говорил:
— Все, остальное получишь в обед.
Отец покорно садился в машину Лопахина и ехал с ним в «Яму» выпрямлять, лудить, запаивать корпуса и крылья иномарок, смятые в гармошку и покалеченные до такой степени, что их не взялся бы вернуть к жизни даже сам Форд или японский автомобильный гений мистер Хонда. В обед отец допивал обещанную бутылку и до заката солнца снова стучал деревянными молоточками по искореженному металлу или переставлял хондовскую коробку передач на американский «форд». Иными словами, те сенсационные «браки» «хонды» с «фордом» и «тойоты» с «GM», которые в восьмидесятых годах будут стоить этим компаниям миллиарды долларов, совершались в 1978 году в подмосковной «Яме» тремя гениальными русскими алкашами за бутылку водки «Московская». После рабочего дня щедрый Лопахин, который зарабатывал на этом тысячи, наливал своим работягам еще по стакану и сам отвозил их домой, спать. Что мог сделать Барский этим алкашам, когда грозил Анне шантажом «по линии отца»? Отнять пенсию в связи с «нетрудовыми доходами» — тремя стаканами водки в день?
Медленно скатившись на своем «жигуленке» по склону котлована, Анна остановила машину в нескольких шагах от отца. Со дня похорон матери они виделись лишь раз в год, на кладбище, в годовщину ее смерти. Но даже там, у могилы матери, когда Анна попробовала заговорить с отцом, он, дыша водочным перегаром, отрезал враждебно: «Оставь меня в покое!» — и ушел. А последние два года он пропускал и эту дату…
Выключив мотор, Анна вышла из машины и шагнула к отцу.
Конечно, он увидел ее, но продолжал молча и еще старательней стучать обернутым в войлок молотком по куску железа, похожему на заднее крыло «мерседеса». Анна молча смотрела на отца. Небритый, непричесанный, седой. Заросшая шея, выцветшая ковбойка, грязные штаны с пузырями на коленях, стоптанные туфли. И запах водочного перегара. И глаза, избегающие ее взгляда.
Наконец он перестал стучать, взял эту железяку и пошел с ней к остову разобранной машины, приложил ее над задним колесом, а затем вытащил из-под навеса сварочный агрегат, нацепил на голову маску-щиток и собрался не то приварить, не то припаять эту железяку. Она подошла к нему:
— Папа, нам нужно поговорить.
Он молчал. Скорее всего, он уже понял, что раз она приехала сюда, в «Яму», то простым «оставь меня в покое!» от нее не отвяжешься. Но он молчал, меняя горелку на сварочном аппарате.
— Ты слышишь?
— Ну, слышу. Говори. Чо надо-ть?
— Я хочу уехать.
Он безразлично пожал плечами.
— Насовсем, — сказала она. — В эмиграцию.
Он чиркнул огнивом, и горелка вспыхнула узким, шипящим голубым огнем.
— Папа!
— Да езжай куда хочешь! Только отстань! — сказал он и начал приваривать эту железяку к остову машины.
Она тронула его за плечо:
— Папа, мне понадобится твое разрешение, ты же знаешь. Они не выпускают без согласия родителей.
И вдруг он повернулся к ней, отбросил со лба щиток, и в его голубых глазах она увидела такое же, как в сварочной горелке, бело-жгучее пламя. Он сказал, как плюнул:
— Я тебе не папа! Не папа! Поняла?
— Нет! — ответила она, покачав головой. — Ты можешь звать меня еврейской подстилкой, жидовской шлюхой — кем угодно! Но, кроме меня, у тебя нет никого в мире.
Он отвернулся и стал опять приваривать свою железяку. Только шов пошел не прямой — рука дрожала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу