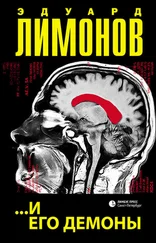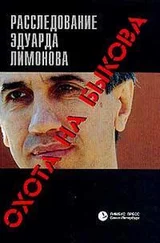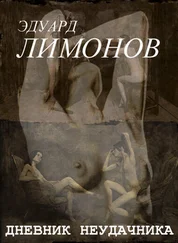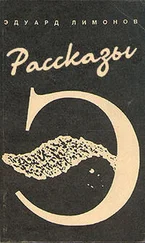Когда американцы закончили оформлять мои бумаги и мы вышли с ним из дурно пахнущего помещения (город находился на вершине депрессии, официальные учреждения не ремонтировались, воняли и разлагались изнутри), Шнеерзон ударом ноги забил за нами дверь и стукнул меня по плечу.
— Ну, Лимон, с первого вэлфэровского чека с тебя бутылка!
Я отметил, что выглядит он радостно, как адвокат, выигравший трудный процесс. В глубине рта светились в пене слюны полусъеденные металлические зубы.
Сердце мое (или что там, какой орган тела отвечает за благодарность?) было переполнено благодарностью к Шнеерзону. Расцеловать монстра я бы и тогда не отважился, но я был очень-очень благодарен ему за то, что он спас меня от необходимости, нет, не работать… Работы я никогда не боялся и выполнял разнообразные работы в моей жизни с готовностью и энергичным самозабвением. Шнеерзон спас меня от необходимости видеть людей. Я никогда не мог находиться с людьми долго, они меня утомляли. С ними нужно было разговаривать, отвечать, видеть их, реагировать на них. Поэтому я обычно дольше удерживался на нелюдимых работах. Поэтому на заводе я всегда напрашивался на третьи смены. В несчастьях же я вообще предпочитал спрятаться. С welfare мне предстояло лишь два раза в месяц являться в оффис на Бродвее для получения чеков. И раз в шесть месяцев меня вызывали для краткой беседы, служившей целью поднять мою мораль, разбудить меня. «Ищете ли вы работу, мистер Савенко?»
— Sure, miss, I look for job. I very look for job.
Впоследствии мне пришлось скрывать от вэлферовских инспекторов свои неуклонно увеличивающиеся знания английского. «Я не понимаю». Инспектор, когда ему надоедала эта комедия, позволял себе заявить (впрочем, беззлобно, с улыбкой): «Вы врете, мистер Савенко, вы все понимаете». «No, I don't understand!» — гнул я свою линию…
Ни хуя я не «look for job». Я распил со Шиеерзоном бутылку, и позже мы распили с ним еще немало бутылок. Я стал называть его Леша, привык к его физиономии, не вздрагивал от его клокочущего смеха и даже стал участвовать в его аферах. «Раз мы уже здесь, надо делать деньги, ребята. В Америке все делают деньги!» Ребята, то есть я и полусонный Эдик Брутт — ниточка усов под носом, — сидели у Эдика на кровати, комната Эдика была угловая и потому, может быть, восемь квадратных метров, в то время как моя — шесть метров.
— Думайте! — Шнеерзон снял очки (они были перебинтованы у переносицы, и одно стекло пересекала лучистая трещина), чтобы пальцем смазать со стекла только что брызнувшую на них помидорную материю — сок и склизкие зернышки. Я забыл упомянуть, что он был не только косоглаз, но и близорук.
— Деньги — суета… Американцы — сумасшедшие, и ты, Лешка, хочешь стать таким, как они, — тихо сказал Эдик. — Не нужно это, Леша!
— Я уже сумасшедший! — загоготал, всхлипывая слюной, Шнеерзон. Он подсмеивался над Эдиком, но, мне кажется, втайне уважал его. Я, впрочем, тоже уважал Эдика. Он жил среди нас как святой. Мы все хотели чего-то: денег, женщин, водки, машин, костюмов, славы. А он себе варил рис и молчал, усмехаясь в отрастающие пегие усы. Единственной известной нам его страстью был кинематограф.
— Лимон, пойдешь со мной завтра перевозить жидовскую контору? Три доллара в час?
— Это тебе Аида Соломоновна устроила? — тихо спросил Эдик. — Хорошая женщина…
— Никакая не Аида Соломоновна… — обиделся Шнеерзон, — rabby Розенблюм.
И Эдик, и Шнеерзон в свое время находились под опекой еврейской организации «Наяна». Организация помогала советским евреям устроиться на работу, найти квартиру и попутно заманивала их в сети еврейских религиозных общин. Им даже платили за обрезание члена. Но, как подрастающий teenager стесняется появляться на улицах с морщинистой мамой, так Шнеерзон не любил, когда ему указывали на волочащуюся по полу пуповину, связывающую его с «Наяной». Аида Соломоновна (мне не пришлось увидеть ее) была сердобольной Jewish mother для всей этой буйной советской кодлы, для начинающих гангстеров и будущих честных жуликов-бизнесменов.
— Пойду, — ответил я. Денег от последнего чека уже нет.
— Контора находится на сорок второй, между авеню «Америка» и Пятой. Ничего тяжелого, я уже там был. Столы, стулья, file-cabinets. [28] File-cabinets (англ.) — шкафы с выдвижными ящиками.
Большой service-elevator… — Шнеерзон всегда утверждал, что тяжелых предметов не предвидится. На месте обнаруживалось, что все тяжелое. Столы оказывались сделанными из танковой брони, стулья из листовой стали…
Читать дальше