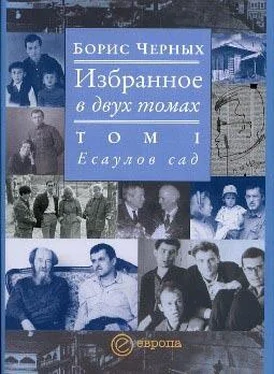– Скажи мне что-нибудь, Эрик, – попросила она, – пустяк какой-нибудь. Я чуть не утопила тебя, мальчик.
Она спасла меня, но ей было этого мало.
– Спасибо тебе за то, что ты чуть не утопила меня. Я люблю тебя.
– Ты искренний, – сказала она, и я вспомнил, что когда-то слышал эти слова. – Ты искренний, тебе тяжело будет жить. Ты совсем не умеешь врать, а надо уметь врать. Так устроена наша прекрасная страна – на вранье.
Она поцеловала меня в плечо и в рану на руке.
Обратно мы возвращались паромом. Женщины с блестящими серпами литовок презрительно глядели в нашу сторону. Они могли думать всякое, это злило меня. Но вскоре стало хорошо, потому что Вы… Вы заговорили с ними и рассказали, как мы тонули. Женщины сразу подобрели и стали нас кормить полевым чесноком и черствым хлебом. Я никогда не ел более вкусного хлеба.
Кажется, я заглядывал ей в глаза, как собачка.
– Бывает, Эрька, – она по-своему поняла мои мысли и шептала. – Я тоже тонула, но меня спасли рыбаки, чуть тепленькую вынули. А вообще-то здесь тонуть лучше, чем на экзаменах. Когда стипендия на волоске, а ты забыл из Горького цитату. Боже, что у нас за институт, сплошные цитаты. Я еще не начала жить, а меня запичкали цитатами. И эти старики с орденскими планками, говорящие по писаному и заглядывающие тебе за лифчик…
Она кончила педагогический. Филологический факультет.
Мы сошли на берег, он был пуст, на песке одиноко стоял розовый зонт.
– Ну вот, – сказала она. – Вот мы и познакомились: ученик и вчерашняя ученица… Мы победили стихию, мы утвердили свое «я»…
Голос ее стал насмешливым.
Рана моя подсохла. Отмочив в воде повязку, я завязал руку майкой, накинул широкую матросскую куртку, чтобы согреться. Бил ветер.
Она надела открытое платье, очень открытое, но именно такое она и должна была носить, чтобы походить на себя, тоже всю открытую и прозрачную, словно кремни на перекатах Умары. Я сбегал на буксир и отпросился домой.
Шли мы долго. Я нес зонт и был горд от того, что все смотрят на меня, как на товарища этой молодой женщины с голубой книжкой в руке.
На миг мне стало смешно, что Маяковский – в голубом переплете. Боролся с бюрократами, а в голубом переплете. Я сказал ей об этом. Она ласково посмотрела на меня:
– А у тебя тонкий вкус.
Тогда я честно сказал, что Маяковского любит мой отец, а я его не перевариваю.
– И зря, зря, – пылко отвечала она. – Он такой же искренний, как вот… ты. Не обижайся… Он искренний и жить далее тридцатого года он не мог, не захотел… Мне страшно, что будет с вами.
– А с тобой? – спросил я.
– Со мной уже ничего не будет, – печально сказала она. Все худшее… все лучшее позади… А за вас страшно… Ты ведь не хочешь лгать?
– Ну, вообще-то по мелочам я вру.
– Отцу? Любимой девочке? Учителям?
– У меня нет любимой девочки, – поспешно сказал я.
– Я ей не помеха, Эрик. Но в главном ты не лжешь, я уверена.
– А ты?
– Меня заставили отречься от Некрасова.
– «Кому на Руси жить хорошо»?!
– Кому хорошо, погибельно стоялось под Сталинградом.
– Под Сталинградом?… Я ничего не понимаю…
– Да где же тебе понять, если ты знаешь одного Некрасова и одного Толстого.
– Я знаю двух Толстых.
– А их было трое. Я филолог, Эрик, не сердись, я знаю. Со временем будешь знать и ты. Если не побоишься. Но надо ли вам знать то, что под запретом…
Я молчал, разгадывая сказанное. На развилке дорог у Почтамтской она неожиданно сказала твердым голосом:
– Эрик, а мне сюда.
– И мне сюда, – ответил я, хотя мне было совсем не сюда. Снова мы шли медленно и долго, долго. Уже диск солнца падал за рощу, тишина – как в деревне – была звенящей, словно стук молока о подойник. В Урийске по вечерам тихо.
Около бревенчатого здания «Умарзолототреста», у обочины стояла легковая машина, в открытую дверцу я увидел человека, который меланхолично листал пестрый журнал. Мой взгляд, видимо, привлек его внимание, он поднял голову и, быстрым интеллигентным движением поправив очки, вскрикнул:
– Валя!
Вы вздрогнули, тягостно посмотрели на меня и как-то неестественно заулыбались.
– Костя, ты как очутился здесь? – спросили вы, глядя мне в глаза.
– С предком, – отвечал этот Костя, – не сидится старику дома. А вообще-то поздравь, в первом законном отпуске. А тебя провожают урийские отроки и носят твой зонт? Пардон, молодой человек, я шучу.
Я отошел в сторону и постоял там немного, поджидая Вас, но Вы сидели с ним в креслах автомобиля и говорили, говорили… Я слышал, Вы сказали: «Все, Костя, течет, но ничто не забывается, не тускнеет, не отцветает, если хочешь. Тот орешник в долине»…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу