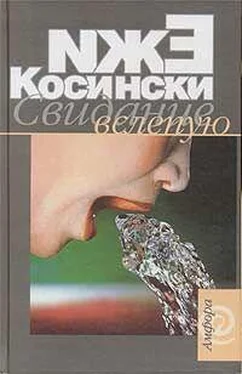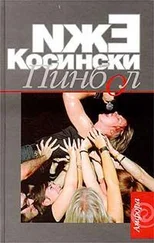Левантер с Ромаркиным, устроив баррикаду из двух столов, швыряли в нападающих стаканы и бутылки, а стульями защищались. Вскоре прибыла полиция. Левантеру удалось убедить хозяина, что, если его и Ромаркина оставят в покое, он немедленно возместит весь причиненный ущерб. Уговаривая полицию не забирать Левантера и его друга, хозяин объяснял, что эскимосы, подобно французам, часто ссорятся из-за политических взглядов.
На следующий день после беседы со своим другом в ночном клубе Левантер отправился навестить Жака Моно, французского биолога и философа, с которым познакомился, когда был в США в научной командировке. Левантер пересказал ему всю историю Ромаркина, начиная с Москвы.
— Даже сейчас во Франции, — сказал Моно, — Ромаркин не смеет признать, что, помимо чистой случайности, в событиях его жизни никто не виноват. Вместо этого он ищет религию вроде марксизма, которая укрепила бы его в мысли, что судьба человека развертывается из некоей осмысленной жизненной сердцевины. И однако же, веря в существование заранее предопределенного смысла, Ромаркин не замечает присутствующей в каждом конкретном моменте его бытия драмы. А ведь, признавая предопределенность, он вполне мог бы полагаться на астрологию, хиромантию или бульварное чтиво, которые утверждают, что наше будущее уже предначертано и нам остается только его прожить.
Когда Моно протянул руку за чашкой чая, Левантер заметил, что она дрожит.
— Вы плохо себя чувствуете? — спросил Левантер.
— Давно уже со мной такого не было, — сказал Моно. Он с трудом унял дрожь в руке, после чего поднял чашку чая.
— Что с вами? — спросил Левантер.
Моно назвал болезнь.
— Несколько месяцев назад мне поставили диагноз при обследовании, — сказал он, отхлебывая чай.
Левантер был ошарашен. Оказывается Моно, который всю жизнь посвятил тому, чтобы обогатить мировую науку знаниями о том, откуда клетки тела черпают жизненную энергию, лишен этой энергии; у него самого неизлечимая болезнь.
Моно было шестьдесят шесть лет. Он выглядел совершенно здоровым, продолжал заниматься своими исследованиями, участвовал в научных конференциях, а по выходным плавал на катере и гонял на спортивном автомобиле. Глядя на него, Левантер и представить себе не мог, что Жак Моно скоро умрет.
Левантеру с трудом удалось сохранить спокойствие.
— Вы проходите какое-нибудь лечение?
— Мне часто делают переливание крови, — Моно попытался сменить тему разговора. Он упомянул, что собирается ехать в Канны и предложил Левантеру составить ему компанию.
— Не будет ли такая поездка всего на один уик-энд слишком для вас утомительной? — спросил Левантер.
— Я хочу поехать туда не только на уикэнд, — ответил Моно.
— А как же с переливанием крови? Это можно делать и там? — спросил Левантер. Моно ничего не ответил. Левантер почувствовал, что у него перехватило дыхание. — Почему бы вам не остаться в Париже? Здесь есть все необходимое оборудование.
Моно пристально посмотрел на него.
— Чтобы машина крюком вытаскивала меня в жизнь? — резко спросил он. — Игра не стоит свеч.
Как-то отец Левантера заявил, что в каждый момент своей истории цивилизация — это результат чистой случайности плюс мысли и поступки одной-двух тысяч исключительных мужчин и женщин, большинство из которых знают друг друга явно или хотя бы понаслышке. Если бы ты оказался в их числе и захотел познакомиться с кем-нибудь из них, для этого бы потребовалось всего два-три посредника. Левантер выяснил, что независимо от области своих занятий все эти мужчины и женщины хотя бы часть своей жизни были мелкими инвесторами — рисковали личной энергией и средствами ради того, чтобы достичь каких-то непредсказуемых целей.
Однажды в крупном нью-йоркском издательстве Левантера остановил какой-то незнакомец и предложил ему познакомиться с его приятельницей, которая работала здесь редактором.
Она была занята чтением версток с внушительным седовласым мужчиной, которого тут же представила Левантеру. Это оказался летчик Чарлз Линдберг. Линдберг всегда казался Левантеру трагическим героем: сначала человек получил всемирную славу, а потом стал жертвой прессы, обвинившей его в преступлениях против семьи и превратившей в одну из самых одиозных фигур общества. Левантер извинился, что помешал, и собирался уйти.
— Прошу вас остаться. Мы уже почти закончили, — сказал Линдберг.
Левантер с Линдбергом вышли вместе. Стоял ясный осенний день, и Линдберг предложил пройти несколько кварталов пешком. Провожая Левантера до Пятой авеню, он то и дело наклонял голову и надвигал на лоб свою шляпу. Левантер подумал, что нежелание быть узнанным стало для Линдберга второй натурой.
Читать дальше