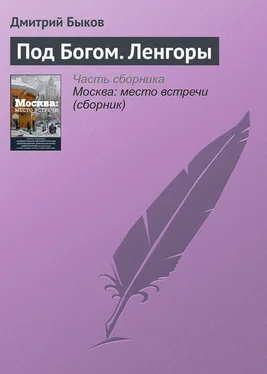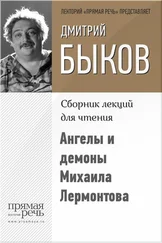И вот весна, апрель, еще только распускаются первые листочки, и даже еще не распускаются, но трава уже есть, и запах от земли такой, какой бывает именно в апреле: к обычной весенней свежести и гнили, к несколько рыбному запаху ранней весны примешивается брожение, какое бывает перед новой травой. Это уже не просто пробуждение, не просто весенняя грязь, которой радуешься, потому что она все-таки лучше смерти, – но именно начало новой жизни, когда в воздухе уже появляется, по-толстовски говоря, скрытая теплота. Воздух марта еще холоден, а в апреле под всем уже чувствуется прочная основа тепла: не бойтесь, возврата не будет, никакой снег уже не пойдет, все повернуло к расцвету, и именно это – а не нагота и нищета, как вам недавно еще казалось, – есть истинная норма жизни. И вот таким апрельским вечером, с розово-синим и даже, пожалуй, красно-синим небом, на Ленинских горах смотришь на невест, по большей части некрасивых, но прелестных (и с красивыми невестами – обязательно некрасивые подруги, которых уже тискают друзья жениха со свидетельскими лентами поперек надутой груди), обязательно все с букетами, и обязательно почему-то с гвоздиками, и даже запах этих гвоздик витает над смотровой площадкой, смешиваясь с кислым духом советского шампанского. Шампанское открывают прямо там. Я терпеть не могу советские праздники с их традициями (трудно придумать что-нибудь глупее похищения невесты, например, и всех этих тостов по бумажке, особенно ужасных в военной среде), – но в этих весенних свадьбах на Ленгорах было какое-то даже языческое величие. Весеннее возрождение, всё такое. И самое удивительное – помню, мать впервые мне это показала, и я с тех пор всегда на это смотрю, – что за два-три дня до листьев резко меняется цвет веток, одни становятся красными, другие зелеными, это соки уже двинулись по ним, и прежде чем все Ленгоры оденутся зеленым дымом, они станут разноцветными из-за этих оживающих веток. А потом возвращаешься домой, всегда пешком. Тут штука в чем? Туда мы ездили на седьмом троллейбусе, и это мой самый любимый маршрут, маршрут счастья. А обратно шли пешком, потому что седьмой с Ленгор идет прямо на Киевский, к нам на Мосфильмовскую не заезжая, и надо делать пересадку, а это такая лишняя трата времени! Гораздо лучше по диагонали через лесопарк. Никаких маньяков тогда не боялись. И идти домой сквозь уже темнеющий лесопарк и в мае слушать там соловьев – это что-то из разряда самых ярких и самых невыразимых воспоминаний: холодеющий, темнеющий воздух, розовые яблони, запах земли, травы, сырой коры – и соловей булькает вдруг среди всего этого. Соловей ведь поет в строгом смысле некрасиво, то есть никакой мелодии, никаких особо извилистых трелей, – но просто какое богатство, разнообразие, все это после дикой монотонности зимы с ее черно-белым миром! Он просто очень много всего умеет, и больше всего пленяет в его голосе именно эта же невыразимость, переполненность: ты никак не можешь передать весь этот восторг, можешь только к нему добавить свое захлебывающееся бульканье. Точней всего его называют азербайджанцы: бюль-бюль. Захлебывается блаженством. Это все сходилось на Ленгорах, потому что там единственный в Москве – по крайней мере в центре, если не брать Лосиный остров или Измайловский парк, – кусок нетронутой природы, дикой, неприкосновенной. Там же, на этих оползающих горах, на почти отвесных спусках, куда и летом не больно-то влезешь, – настоящая дикость, никогда не знаешь, что там найдешь. Мне в детстве всегда казалось, что там зарыты клады. И даже правительственные дачи и Дом приемов, расположенные там же, этого впечатления не портят, потому что они тоже таинственные – и, кажется, очень редко посещаемые.
Зимой там тоже было великолепно. Вероятно, самое счастливое мое время было два выпускных класса и первый курс, потому что были замечательные друзья, совместные походы по театрам и кино, и бесконечные прогулки по Москве, и литературные студии, и детская редакция радиовещания, и работа в газете – мир, короче, очень расширился, в нем появились отличные люди; прибавьте к этому первую любовь с ее новыми удивительными возможностями.
Ходить на лыжах я люблю не очень, а вот с горки – это мне всегда нравилось, и мы ходили на Ленгоры – почему-то всегда в мягкую, почти теплую погоду, с матовым снегом и серым небом, и потом вдруг расчищался очень красный и тихий закат. Там, на Ленгорах, было тогда довольно тихо, мягко падали с веток огромные пласты снега, он был липкий, лыжи вязли, но все равно это было неописуемо хорошо. Там было множество таинственных мест – спасательных станций, лыжных баз, – и таинственней всего мне казались трамплины. Тогда их было два – большой и малый. Люди, которые с этих трамплинов катались, – чаще всего это были одиннадцати-двенадцатилетние школьники, тренировавшиеся в лыжной секции Дворца пионеров, – казались мне полубогами: я вообще не понимал, как с этой искусственной горы можно съехать, прыгнуть и потом лететь. Я ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах не смог бы сделать этого. Иногда, когда никто не видел, можно было подняться на полотно этого трамплина, подробно рассмотреть пластмассовые коврики, которыми оно устлано, – и когда я оттуда смотрел вверх, мне вообще было непонятно, как могут люди себя заставить оторваться от поручней и на корточках, постепенно распрямляясь, поехать вниз. И как они потом приземляются на лыжи? Иногда мы смотрели эти соревнования и вместе со всеми орали. У нас была славная компания: один умер, спившись, другой сейчас в Штатах, третий вообще в Австралии, девушки, по-моему, все в России, но давно про всё забыли. Память, как говорится в народе, девичья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу