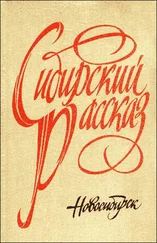– Это для безбожников, – говорю я. – Для нелюдей…
– А ты что: стал таким уж набожным? – мы встречаемся взглядами в зеркальце заднего обзора. Рыжие глаза Юры смеются. – Ты-то, греховодник?
– Боюсь, что да. Потому что греховодник. Все иное ведет в тупик… Кочевье – тоже. Вон посмотри: цыгане – и те осели…
Было, к нам в Китаевск потянули вербованные люди, брянские с рязанскими. Приехали девушки с иным, певучим говором, с иными именами. Были среди них Софья, Бэла, Мирра, Эвелина. На праздники поселковые мужи стали надевать яркие цветные и белые рубахи. После праздников висели на бельевых веревках между жилыми вагончиками-балками красные, желтые, белые. Они болтали рукавами, как пугала, и не давали летним птицам оставить на себе пометки. А зимой птица в Сибири не разгуляется.
Плотник-бетонщик Толя Богданов водки не пил, но и не выполнял производственного плана. Он курил кашгарский белый план и зеленую конопляную пыльцу под названием дурь. Толе в письмах присылали ее друзья. Они заглаживали дурь утюгом в уголок почтового конверта. Обдолбавшись, Толя прямо на полигоне нового завода играл на семиструнной гитаре и часто облизывал пересохшие губы. Голова его клонилась к деке, «канадка» падала на глаза, которые были мутны и печальны, когда он пел:
… Есть в Ташкенте речушка Салара,
Она мутные воды несет.
А на той стороне – плановая,
Она мальчика нынче спасет…
Комсомольцы и комсомолки млели и решались выпить, чтоб подпеть. Им, воспитанным на примерах борьбы за светлое однопартийное будущее, хотелось чего-то запретного. Они, как и я, четырнадцатилетний человек, никогда раньше не слышали таких понятных сердцу страдальческих песен. Я никогда не видел такой уверенной и грамотной гитары. Наверное, Толя был неплохой музыкант. Он не был хулиганом. Похоже, что он жил в среде, отличной от нашей. Никогда я не слышал, чтобы он назвал кого-то Сёмкой, Васькой, Валькой – только Василий, Семен, Валентин. В бараке заводского общежития на рабочей разливанной окраине, где «Ж» располагались слева от входа, а «М» – справа, о Толике шептались все девушки. Они говорили, что Толик в бегах, что он скучает по родному городу Грозному, но если появится там – ему не жить. Он, как Фанфан-Тюльпан в волонтеры, завербовался в Сибирь и ушел от проклятой погони.
Искры камина горят, как рубины,
И улетают с дымком голубым…
Из молодого красивого юноши
Стал я угрюмым, больным и седым…
Он пел и узкими пальцами легко, как девичьи волосы, перебирал струны гитары. Девушки обнадеживающе смотрели на него:
«Дурачок, милый маленький дурачок! Да вот же мы – женский штрафбат! Ты цены себе не знаешь!» – говорили они безмолвно, их мысли порхали вокруг Толи, как птички-колибри.
Они сами вибрировали, как струны или как вибраторы на полигоне бетонного завода.
– … А что же мне делать, коль юность утрачена?
Что же мне делать, куда мне пойти? —
спрашивал Толик.
Девушки сладко затаят дыхание, а Толик выносит приговор любви:
… Нет, не пойду як тебе, сероглазая,
Счастье искать, чтобы горе найти…
И девушки-комсомолки уходили оплакивать неприступность Его Величества Вора.
Было ему лет восемнадцать. Мне пятнадцатый. Он как-то доверчиво выделил меня из всех, приходил к нам домой. И мама, жалея, пыталась его накормить. Когда Толика выгнали с завода по тридцать третьей, она приютила его, печального демона – духа изгнанья, как родного. И если бы он сказал: «Приведи мне свою сестру», – я привел бы. Все равно она, бедная, уже была не раз бита отцом за любовные дела, а я мог только мечтать о таком шурине. Я думал тогда, что если парень ночует с девушкой, то это – любовь. Это значит, они копят деньги на комсомольскую свадьбу и на платяной двустворчатый, чтобы – поровну, шкаф. Но с девушками Толик, тоскующий о чем-то непонятном простым смертным, замечен не был. А вот поесть любил, особенно когда «забьет косяк» анаши и «пошабит». На печальном его лице тогда появлялась счастливая улыбка. Обычная молчаливость оставляла его. Тогда он мог махом съесть булку сухого хлеба за шестнадцать копеек, недавние рубль шестьдесят. А за двадцать четыре, белого, мог заглотить две булки, не жуя.
Он говорил:
– Кумарит, Петр. Могу еще булку оприходовать. Понимаешь, Петр: если человек поверил в свои возможности, в свои силы, то его возможностям не будет предела. Это – истина. Если ты в глубине души ощущаешь себя жалким кроликом, то ты – ничто, имей даже жесткие мускулы, как у Тарзана, и мягкое пузо, как у начальника отдела сбыта Кубрака. Так что ты к Бэле-то подкатись, не бойся… Поверь в себя, отрок. Людей губит страх. Страх губит любовь. Спеши, а то к ней Георгий Хара уже подкатывается на новом велосипеде с фарой, ментовская мразь…
Читать дальше
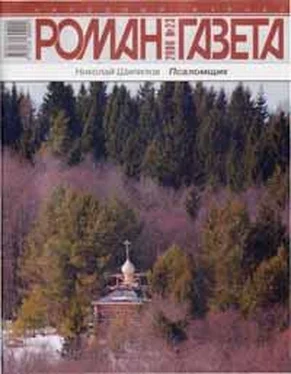
![Николай Эрдман - Письма - Николай Эрдман. Ангелина Степанова, 1928-1935 гг.[с комментариями и предисловием Виталия Вульфа]](/books/72319/nikolaj-erdman-pisma-nikolaj-erdman-angelina-stepanova-1928-1935-gg-s-kommentariyami-i-thumb.webp)