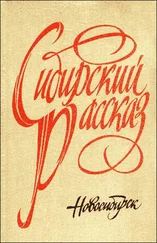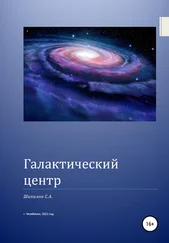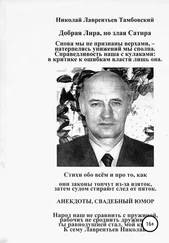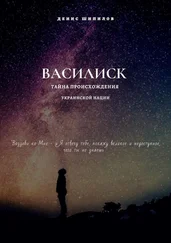– Вор! – рассудил я тотчас. У меня еще не крали. Стало быть, начал я в подслеповатой своей ярости выбирать из угольного шлака что потяжелей, но бабушка уже грозила мне пальцем из раскрытого окна, говоря:
– Яичко любишь? Ну вот! А петуховину осенью – сами съедим!
И сбылось. Летом султана съели. Мы еще и поспорили с сестрой на грудной косточке, кто первый слово молвит. Косточку нужно разломать вдвоем, вдоль и пополам. А после этого тебе дают что-нибудь в руки, а ты непременно должен говорить: беру, да помню! Поспорили мы на целый дореформенный рубль, и я бдел половину суток.
Отец приходил на обед в двенадцать часов, мыл руки, подтягивал гирьку часов, включал репродуктор и садился за стол, никогда на него не облокачиваясь. Вот я и пошел на огород собрать ему сладких огурцов с навозных грядок.
– Жалко петуховину? – спросила из-за спины сестра.
– Маленечко…
– Ой! Смотри-ка: двадцать копеек! – она нагнулась и подняла у моих ног блестящую монету. Я мигом вырвал у нее этот подарок судьбы, а она, хитрая, отдала двугривенный и смеется:
– Бери, да помни!
Я подсчитал убытки: от ста копеек отнять двадцать – это восемьдесят. Это неделю копить по десять копеек в день. Ладно, приедет тряпичник, сдам утиль и рассчитаюсь.
Тут с улицы донесся вопль певца за сценой:
– Айда-те в клу-у-у-уб! Духовой оркестр шахтеров хорони-и-ит! Дядя Петя на басу-у-у заработал колба-су-у-у!
Я поставил миску с огурцами на крыльцо, и голодной ватагой мы хлынули на похороны. Когда схлынули с мероприятия, пока ходили, кто-то спер огурцы. Это не считалось кражей, а шло по статье «наказание за ротозейство».
Но там, в засыпных бараках сибирских каменоломен, я увидел настоящего живого вора Шуру Чалых.
Это случилось, когда лупанул невиданный на Сибирской низменности парной тропический ливень. Гром раскатывался так, что собаки рвали цепи и запрыгивали в окна бараков, распарывая голодные чрева об осколки стекла. Безымянная речонка напиталась бешеною водою, поднялась видением, подмыла и обрушила свой крутой берег. А второй, пологий, – поглотила.
На том пологом берегу зимогорили в землянках-кратерах Копай-города полунищие, отставшие от паровоза истории, поселенцы каменного карьера. Отцепленный телячий вагон поезда дальнего следования.
С чердака своей коричневой двухэтажки, какие до сих пор стоят у железных дорог, мы с Юрой Медынцевым и со слепой девочкой Светой обозревали противный берег Копая – этот затерянный мир. Юра скрутил ладони в трубочки наподобие бинокля и в этот бинокль рассматривал лютую стихию.
– Что видишь, керя? – на правах командира спрашивала слепая Света.
Юра рапортовал, что копайские люди валят заборы и вяжут плоты, что поток несет на своем горбу вороньи гнезда и рухнувшие плетни; что какой-то человек в костюме бросился в воду спасать тонущего Гошу Чимбу: гошина голова то покажется на поверхности воды, а то снова канет.
– Скажи, керя: зачем этот Чимба полез в воду?
– Он хотел выловить чей-то патефон, керя, и стал тонуть сам! – ответил четко, по-военному Юра. – Воду хлебает! Конец пути – Обская губа!
– Но патефон не может плавать! – засомневалась Света.
– Плывет, как камбала! – заверил Юра.
Он был смиренным ребенком и отличником учебы, которая давалась ему естественно, как дыхание. Придешь к ним в итээровский дом на две семьи:
– Юра дома?
– Занимается! – строго округлял глаза искалеченный войной его отец дядя Серя. – Я вас, шельмы, научу, как правильно родину любить!
Он привез с войны трофеи – фарфоровых пастушек, два гобелена, часы с боем и всякую диковинную мелочь, которую Юра бестрепетно таскал из дома.
– Занимается! – говорил дядя Серя и концом трубки указывал на портрет Юры, писанный маслом.
На портрете – надпись:
Учись, мой сынок!
Твое время настанет.
И знанья твои пригодятся стране.
А если учиться мой сын перестанет,
Пусть вспомнит тогда
об отцовском ремне.
Под портретом подпись:
Папчик – майор артиллерии С. Медынцев
Рядом с этим портретом на гвозде висел, как жирный навозный салазан 15, командирский ремень. С портрета невинными глазами смотрел на нас вороватый ангел в пионерском галстуке – сын артиллериста дяди Сери.
Ремень научил Юру делать такие невинные глаза, но это не мешало ему красть у отца охотничий бездымный порох «Сокол» и махорку. И на тот час на том чердаке у нас была выстроена из суглинка «фанза» – курительный прибор, куда забивался добрый фунт томской махорки. Но Свете мой друг курить запрещал – она считалась его невестой.
Читать дальше
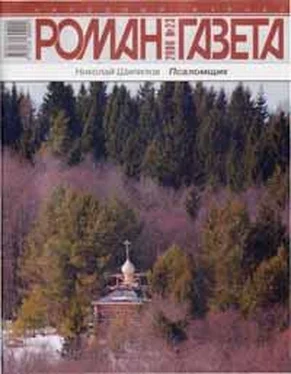
![Николай Эрдман - Письма - Николай Эрдман. Ангелина Степанова, 1928-1935 гг.[с комментариями и предисловием Виталия Вульфа]](/books/72319/nikolaj-erdman-pisma-nikolaj-erdman-angelina-stepanova-1928-1935-gg-s-kommentariyami-i-thumb.webp)