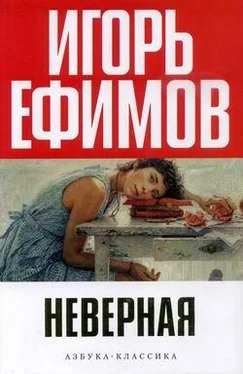Но могла ли молодая женщина, ставшая объектом такого пламенного обожания, остаться холодной, равнодушной, неприступной? Из мемуаров Л. Д.:
«Как могла я удержаться от соблазна испытывать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего – на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон-Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех– или шестичасовые его монологи, теоретические, отвлеченные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением всего ко мне; или прямо, или косвенно выходило так, что смысл всего—в моем существовании и в том, какая я».
Своими терзаниями Л. Д. делилась с другом Блока, Евгением Ивановым. Сохранился его дневник тех весенних месяцев 1906 года. Вот запись от 11 марта:
«Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать? Если уйти с Б. Н., что станет Саша делать… Б. Н. я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Б. Н. мы одно и то же думаем: наши души это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уже сколько времени идти вместе не могу… Я не могу понять стихи, не могу многое понять, о чем он говорит, мне это чуждо… Саша вдруг затосковал и стал догадываться о реальной возможности ухода с Борей».
Как далеко зашли их отношения? Нам остается верить только тому, что рассказала в своих воспоминаниях сама Л. Д.:
«…С этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом… Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы… Я попросила Борю уехать».
Требования «уехать», «не приезжать» были восприняты Белым как нелепая жестокость. Идолопоклонник «несказанного» требовал от своих единоверцев, чтобы они подчинились расплывчатому догмату «любовь превыше всего».
«Милый Саша… клянусь, что Люба – это я, но только лучший. Клянусь, что Она – святыня моей души… Клянусь, что только через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак – это не видеть Ее… Клянусь Тебе, Любе и Александре Андреевне, что я буду всю жизнь там, где Люба, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно… Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба – необходимый воздух моей души… К встрече с Любой в Петербурге (или где бы то ни было) готовлюсь, как к таинству».
Теперь уже и сам Блок поддается этому напору и пишет Белому дружески увещевательное письмо:
«Боря, милый! Прочтя твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя… Все время все, что касалось твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня как будто и нет… Внешним образом я ругал Тебя литератором, так же, как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно, так же, как Люба и мама, что Тебе лучше теперь не приезжать в Петербург – и лучше решительно для всех нас».
Но, уверенный в своих «правах влюбленного», Белый отвечает:
«Милый Саша, право, я удивляюсь, что ты меня не понимаешь. Ведь понять меня вовсе не трудно: для этого нужно только быть человеком и действительно знать… что такое Любовь… Я готов написать Тебе хоть диссертацию, объясняющую по пунктам то, что было бы во мне понятно всякому живому человеку, раз в жизни испытавшему настоящую любовь.
Ты прекрасно знаешь, что я не могу не видать Любы и что меня хотят этого лишить. Я считаю последнее бессмыслицей, варварской, ненужной жестокостью… Весною (в апреле) я уже решился на самоубийство, и меня вы все (ты, Люба, Александра Андреевна) предательски спасли моим переездом в Петербург – но только для того, чтобы через две-три недели опять предъявить мне смертный приговор и заставить протомиться три месяца».
Всю свою треугольную драму Белый тут же переплавлял в прозу и стихи и печатал при первой возможности. Это переполнило чашу терпения Любови Дмитриевны. Она пишет Белому в октябре 1906 года по поводу опубликования рассказа «Куст»:
Читать дальше