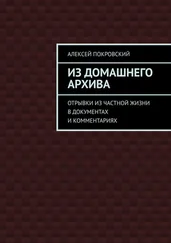С Ниной мы с того утра стали жить в разных комнатах, она осталась в дядипетиной, а я окончательно обосновался в большой. Мы не разговаривали и почти не виделись — я уходил рано, приходил среди ночи, она еще дорабатывала в своем издательстве, но в основном возилась с верстками и сверками дома. Иногда, сварив себе утром кофе и быстро глотая его на кухне, я видел ее, в коридоре мелькал халат, и я спешил уйти, пока в ванной шумел душ.
И постепенно жизнь застыла, ее уже нельзя было изменить.
А потом был построен дом. Когда я решил его строить, мы, кажется, все же начали разговаривать, Нина оживилась, мы ездили вместе по пригородам, еще не сплошь заставленным особняками, выбирали место, она меняла что-то в проекте… Я надеялся, что жизнь восстановится, уже тогда я хотел только этого. Но после переезда за город стало еще хуже. Не помню точно, наверное, в то время я и начал думать, что она не просто обижена, никакая обида, казалось мне, не может держаться так долго. Не помню, как я уговорил ее пойти по врачам… И врачи подтверждали мое предположение, но как-то невнятно — да, возможно, это болезнь, однако, видите ли, в таких случаях трудно провести границу между тяжелым, но не патологическим состоянием и болезнью…
Почему мы не развелись, зачем я врал, выкручивался, упрашивал, ради чего она мучилась, изводила себя, сходила с ума — но отчего же не расходились? Все знакомые годам к сорока поразвелись, поженились снова, многие и снова развелись… Что удержало нас?
Какое-то время назад я, кажется, понял. И с тех пор больше никогда не задаю себе этого вопроса, уж больно нелеп ответ, до которого я додумался.
Такой любви не бывает, да мало ли чего не бывает, а есть.
Глава седьмая. Сослуживцы
Те, кто знают меня давно — Ленька, Игорь, изредка встречающиеся институтские коллеги, — говорят, что у меня здорово испортился характер. Странно было бы, если б этого не произошло… Я и сам замечаю, что чем дальше, тем больше меня раздражают самые невинные вещи, но поделать с собой ничего не могу.
Один малый из нашего института, способный был ученый и парень остроумный, стал часто болеть, врачи никак не могли поставить диагноз — то желудок, то сердце, наконец сказали, что тяжелый невроз, уложили в знаменитую в интеллигентских кругах Соловьевку, в клинику, где тогда, в семидесятые, модно было отлеживаться от неприятностей, клали на месяц с лишним и бюллетень давали. Я заехал его навестить, у нас были полуприятельские отношения. Выглядел он прекрасно, все время шутил, говорил, что теперь у него вообще нет нервной системы, осталась одна пищеварительная. Но почему-то было понятно, что не все так хорошо. Я запомнил еще одну его шутку: ну, сказал он, ладно, я верю, что у меня невроз и депрессия, я даже верю, что это можно вылечить таблетками и прогулками перед сном, но разве оттого что я вылечусь, наш ученый секретарь перестанет быть мудаком? Через год он покончил с собой, на рассвете выбросился из окна своей квартиры на двенадцатом этаже, в которой поселился за месяц до этого, семь лет ее ждал после развода, комнаты снимал…
Вот и я никак не могу убедить себя в том, что вся окружающая дрянь только кажется мне такой, а на самом деле это у меня характер паршивый, старческая брюзгливость и усталость. Ну, например, дикая мода на всякую театральщину в наших дорогих ресторанах, костюмированные официанты, декорации, какое-то барахло украшает зал — да не во мне дело, а в том, что мерзость это, глупость и дурной вкус! Да, плохой у меня характер, брюзга я, но ведь за границей же этого нет почему-то! Там я и не раздражаюсь. Вернее, раздражаюсь, конечно, но там другие причины…
Нам определили отличный стол, на втором этаже в дальнем левом углу, наверное, рустэмовская Роза Маратовна еще с утра заказала, а со мной он советовался для видимости. Наряженные опереточными лакеями официанты работали, надо отдать должное, умело, раздражение мое понемногу прошло.
Рассаживаемся мы привычно, в таком же порядке, в каком садимся на совещаниях. Тут только я замечаю, что не пришел Валера Гулькевич, — и немедленно, хотя не говорю ни слова, получаю от Рустэма пояснения: у Валеры семейное торжество какое-то, у тещи, что ли, юбилей, он никак не может, очень жалел.
— Куда тебя черти унесли днем? — успеваю спросить я Игоря, пока все двигают стулья, устраиваясь.
Он глядит на меня удивленно.
— Меня Рустэм еще с утра попросил… — начинает он, но я уже отворачиваюсь, давая ему понять, чтобы замолчал, потому что у Верочки слух отличный, а мне уже и так все ясно: Рустэм к сегодняшнему вечеру подготовился отлично, все продумал, в частности, позаботился о том, чтобы мы с Игорем не обсудили общей линии поведения. Через несколько минут, когда все углубляются в меню, я, будто советуя Кирееву, что выбрать, наклоняюсь к самому его уху и невнятно бормочу «Не пей много». Кажется, он слышит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
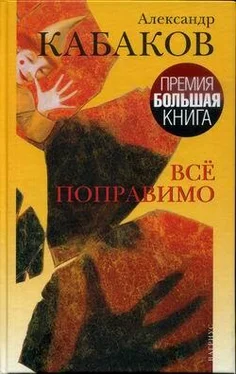
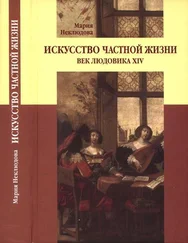






![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/413881/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik-thumb.webp)
![Доминик Бартелеми - История частной жизни Том 2 [Европа от феодализма до ренессанса]](/books/415170/dominik-bartelemi-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-2-evr-thumb.webp)
![Питер Браун - История частной жизни Том 1 [От римской империи до начала второго тысячелетия]](/books/416466/piter-braun-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-1-ot-rimsko-thumb.webp)
![Софи Боди–Жандро - История частной жизни Том 5 [От I Мировой войны до конца XX века]](/books/434742/sofi-bodi-zhandro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-5-ot-i-thumb.webp)